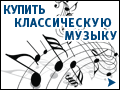По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Вэйс. «Возвышенное и земное». «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан». 78
Констанце не понравился отсутствующий вид Вольфганга. Даже в постели он был в этот вечер невнимателен, чего раньше никогда не случалось, отговариваясь тем, что слишком устал для любви. Уж не увлекся ли муж другой, думала Констанца. Для композитора в Бургтеатре столько соблазнов. Но как это узнаешь? Она пожаловалась на плохое самочувствие — беременность дает себя знать, и Вольфганг снова сделался нежен.
А через минуту во взгляде его опять появилось хорошо знакомое ей отсутствующее выражение. Он вскочил с постели и побежал в музыкальную комнату. Констанца предложила накинуть халат, но Вольфганг не слышал — сидя за столом, он лихорадочно писал. Поскорей бы уж он закончил эту «Свадьбу Фигаро», молила про себя Констанца.
Да Понте быстро набросал первоначальный вариант либретто, и чем дальше шла совместная работа над оперой, тем большим уважением проникся к поэту Вольфганг. Да Понте внес в либретто очень мало своего, он лишь сократил комедию, приспособив ее для оперы, но в этом деле, оказался весьма искусным и охотно вносил все предлагаемые Вольфгангом поправки. Текст да Понте был полон лиризма, легко ложился на музыку, и Вольфганга радовал тонкий слух поэта, его отменный вкус и природное чувство юмора. Кроме того, да Понте прекрасно понимал, что поэзия в опере должна быть послушной слугой музыки.
Работа над «Фигаро» поглощала у Моцарта все время. В эти дни он больше часов проводил в театре, чем дома, но Констанца старалась сдерживаться — не поднимать ссор и не ревновать мужа. Это давалось ей нелегко — Вольфганг не замечал ничего вокруг, и не раз в душу ей закрадывалось подозрение: не появилась ли у нее соперница? Разве опера может занимать все помыслы человека?
Однажды, когда Вольфганг просидел всю ночь в музыкальной комнате, сочиняя музыку, не на шутку встревоженная Констанца наутро сказала:
— Ты вконец подорвешь здоровье, если будешь так продолжать.
— Это необходимо. Партия графа требует переделок. Мандини недоволен.
— А Мандини позаботится о тебе, когда ты сляжешь?
— Станци, скоро это кончится. И мы с тобой надолго уедем отдыхать.
Никогда это не кончится, думала она, он будет писать всю жизнь, до последнего вздоха.
Вольфганг огорчился, подслушав нечаянно, как Мандини говорил жене:
— Партию графа невозможно спеть эффектно, таким негодяем он выведен! Неужели Моцарт не понимает, что мне нужны симпатии зрителей? Сальери так со мной никогда не поступил бы.
Вольфганг спрятался за кулису, чтобы его не видели. Жена Мандини ответила:
— Поговори с ним. Роль Марцелины по сравнению с другими ролями очень незначительна, но мои арии ничуть не уступают другим.
— Браво! Выходит, я еще должен его благодарить за то счастье, которое тебе выпало? Он без ума от Сторейс, а до меня ему дела нет, — с хитрым смешком заметил Мандини.
— Я ничего такого не замечала.
— А тут и замечать нечего. Она ведь героиня. Примадонна.
— Мне кажется, у графини гораздо более красивые арии.
— Это дело другое. Но раз он отдает графине самые выигрышные арии, я на ее фоне проиграю. Он задался целью испортить мне имя
Изрядно потрудившись, Вольфганг написал для Мандини новую арию — «Vedro, raentr’io sospiro» («Скажи, зачем жестоко томила так меня?»), которая по выразительности не уступала его лучшим произведениям. Пропев ее, Мандини заявил:
— Ария так серьезна, что скорее подходит для трагедии.
— Будет еще трагичнее, если ее придется петь кому-нибудь другому, — заметил да Понте.
Мандини пожал плечами.
— И кроме того, теперь это самая длинная сольная ария во всей опере, — сказал да Понте.
— Баста! Вы, может, думаете, я с ней не справлюсь?
— Наоборот. Поэтому мы ее и написали. И кроме того, здесь вы сможете блеснуть своим голосом.
— О, я, разумеется, не отказываюсь. Только не ждите, чтобы я ее полюбил. В опере и без того слишком много любви. Да к тому же и ария слишком трудная.
Вольфганг радовался: Мандини спел «Скажи, зачем жестоко томила так меня?» великолепно, и новая ария вдохнула в роль графа ту страсть, которой до тех нор ему явно недоставало.
Работа с Энн Сторейс — вот что нарушало душевное равновесие Вольфганга. Он пытался держаться безразлично, но это лишь обостряло его чувства. Энн же вела себя необычайно покладисто и с готовностью выполняла любое его указание.
Как рад он был, что почти вся партия Сусанны до самого последнего акта исполнялась в дуэте — Вольфганг пользовался этим обстоятельством как предлогом, чтобы приглашать на репетиции с Энн кого-нибудь из певцов. И, только дойдя до ее арии в последнем акте «Dehi vieni» («Приди, о милый друг») — единственной по-настоящему сольной, — Вольфганг постарался создать музыку, которая выразила бы все очарование и нежность Энн. Он стремился передать ее чувства как можно более простыми средствами, и именно поэтому ария получилась невероятно трудной; ему пришлось переписывать арию много раз, пока музыка не стала соответствовать ее голосу и не выразила то, что Вольфгангу хотелось сказать.
После огромной затраты душевных сил, отданных сочинению партии Сусанны, окончательная отделка арии Керубино явилась для Вольфганга наслаждением. Он с восторгом писал музыку, воспевавшую блаженство любви и радость жизни. Керубино был влюблен в любовь, как и сам Вольфганг в прошлом, да подчас и в настоящем, и какой-то частью своего существа он симпатизировал Керубино, тогда как другая часть подсмеивалась над ним.
Собственно, все, что он сочинял, шло от самого сердца. Работая над ариями графини, Вольфганг чувствовал, как волнение переполняет его. Он разделял ее горе: она любит мужа, а тот увивается за каждой хорошенькой женщиной, которая попадется ему на пути. По пьесе роль графини была довольно поверхностной, но Вольфганг углубил и облагородил ее характер, создав для нее арии, полные неподдельного пафоса и острых переживаний. В ее партию он вложил страсть, испытанную им самим, но на чью-либо сторону не становился. Он сильно драматизировал ее роль своей музыкой, не скрывая при этом, что его сострадание и симпатии принадлежат ей, но стремясь своих чувств никому насильно не навязывать.
В образ Фигаро Моцарт вложил еще большую частицу себя, но эта музыка писалась легче. Он испытывал истинное наслаждение каждый раз, когда Фигаро удавалось перехитрить графа, — разве сам он не сумел так же перехитрить Колоредо? Партию Фигаро Вольфганг писал с огромным подъемом.
Однажды, когда он разучивал с Анной Готлиб маленькую роль Барбарины, работая так же увлеченно, как со всеми остальными певцами, актриса преподнесла ему букет цветов.
— По какому случаю? — растерянно спросил Вольфганг.
Анна Готлиб вся зарделась и прошептала:
— Вы так добры, маэстро, дали мне роль в вашей опере. Мне еще очень мало лет, как вы знаете, маэстро.
Мало лет? Действительно! Анне всего двенадцать. Но она очень подходила к этой роли. Анна Готлиб принадлежала к артистической семье, и у нее был прелестный девичий голосок, как и требовалось для роли Барбарины.
— Если вы поставите цветы в воду, маэстро, они долго простоят, — сказала Анна.
И тут Вольфганга осенило: да девочка просто влюблена в него! Однако это абсурд, она совсем еще ребенок! Но пошутить над девочкой, как это сделал бы на его месте любой другой мужчина, он не мог. В чувстве Анны было что-то удивительно чистое и трогательное.
— Надеюсь, ваши цветы долго не увянут.
— О, конечно, сэр. Я нарочно купила стойкие и выбрала самые свежие. — Анна Готлиб, единственная во всей труппе, была ниже его ростом, и Вольфгангу пришлось нагнуться, чтобы поцеловать девочку в лоб.
На глазах у нее выступили слезы, и она спросила:
— Вы не сердитесь на то, как я пою, маэстро?
— Нисколько. Вы очень хороши в этой роли. Именно то, что нужно.
Вольфганг еще раз вернулся к песенке Барбарины в последнем акте, где она появляется на сцене в поисках утерянной булавки, и постарался придать этой ариетте нежность и задушевность, хотя да Понте и винил его, зачем он отдает столь изящную мелодию второстепенному персонажу, это неразумно. Но когда Анна пропела свою песенку «Уронила, потеряла» искренне и с большим вкусом, Вольфганг почувствовал себя полностью вознагражденным, хотя по-прежнему смотрел на Анну Готлиб как на ребенка и держался с ней по-отечески покровительственно.
За несколько дней до назначенной премьеры состоялась первая генеральная репетиция «Свадьбы Фигаро» в ее окончательном, как надеялись Вольфганг и да Понте, варианте. Либретто и партитура оперы были много раз переписаны с начала до конца, и теперь, казалось, все было в порядке, за исключением увертюры, но Вольфганг уверил да Понте: на этот счет беспокоиться нечего.
— Она вся у меня в голове, с первой до последней поты.
— Орсини-Розенберг пришел посмотреть репетицию, — сказал да Понте, указывая на фигуру, едва различимую в темноте, царившей в задних рядах партера.
— Он должен радоваться. Господину директору не придется откладывать нашу оперу, как он делал со многими другими.
— А вы удовлетворены, Моцарт?
— Музыкой— да.
— А либретто?
— Посмотрим, как справится с оперой вся труппа, тогда и будем судить.
Репетиция началась, и да Понте, не обращая внимания на директора, сел поближе к Вольфгангу, который ради такого случая надел малиновый плащ и отделанную золотым шнуром высокую шляпу. Дирижируя оркестром, Вольфганг, казалось, сохранял полное спокойствие, но, когда Бенуччи очень живо, с огромным воодушевлением запел арию «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», да Понте услышал, как Вольфганг sotto voce (Вполголоса (итал.)) крикнул:
— Браво, браво, Бенуччи!
А когда Бенуччи дошел до последнего зажигательного пассажа: «Cherubino, alia vittoria, alia gloria militar» («Keрубппо, побеждай, Керубино, побеждай!»), который оп пропел во всю силу своего могучего голоса, проникновенно и с огромным подъемом, воздействие было подобно электрическому удару. Бенуччи закончил, все певцы и статисты, находившиеся па сцене, и весь оркестр в едином восторженном порыве закричали:
— Браво, браво, маэстро! Viva, viva grande (Да здравствует великий! (итал.)) Моцарт! — Да Понте подумал, что оркестр вообще не прекратит овацию, музыканты изо всех сил стучали смычками по пюпитрам. После финала первого акта повторились такие же восторженные овации, как и после исполнения других номеров, но теперь Вольфганг не прерывал действия оперы. Спектакль кончился, весь оркестр встал и бурно приветствовал композитора. Тогда Вольфганг взял да Понте за руку, вывел его на сцену и настоял, чтобы синьор поэт разделил с ним триумф.
Они уже собирались покинуть театр, когда их позвали к директору. Это прозвучало как приказ; Моцарт и да Понте, вошли в кабинет Орсиии-Розенберга, и тот не предложил им сесть, а, сурово взглянув на обоих, объявил:
— Да Понте, вы вставили в «Фигаро» балет.
— Он играет существенную роль в развитии сюжета, ваше сиятельство.
— Вы ведь видели, какой восторг это вызвало у труппы и оркестра, — добавил Вольфганг.
— Они — лица заинтересованные. Вам, без сомнения, известно, что император запретил балет в своих театрах.
— Я не знал, что это относится и к опере, — сказал да Понте.
— Это относится ко всем спектаклям, которые идут в театрах его величества. Вам придется выбросить балет.
Вольфганг запротестовал:
— По это погубит «Фигаро», ваше сиятельство!
— Меня это мало трогает. Да Понте, я желаю видеть либретто.
Да Понте с большой неохотой вручил директору текст либретто. Орсини-Розенберг решительным жестом вырвал оттуда две страницы, содержащие балетную сцену.
— Мы не сможем поставить оперу без балета! — воскликнул Вольфганг.
— С балетом поставить ее вы тем более не сможете, — усмехнулся Орсини-Розенберг.
— Это несправедливо. У нас нет времени менять сюжет.
— Ну что ж, Моцарт, мы подыщем другую оперу, — заключил директор, — и поставим ее взамен «Фигаро». — Оп встал, давая понять, что аудиенция окончена.
Бешенство охватило Вольфганга. Он стоял у подъезда Бургтеатра, не замечая ничего: ни проезжающих мимо экипажей, ни пешеходов, — и говорил да Понте, что такой произвол допустить невозможно, они должны обратиться за поддержкой к императору. Но да Понте не согласился.
— У меня другой план. Что касается интриг, то плести их умеет не один директор.
Да Понте говорил столь уверенным тоном, что Вольфганг немного успокоился, хотя никак не мог взять в толк, зачем Орсини-Розенбергу понадобилось так поступить.
— Все очень просто. Последнее слово, в конце концов, за Иосифом. Сальери, должно быть, предупредил директора, что «Фигаро» может иметь огромный успех и вытеснить с подмостков театров его собственную оперу, а когда Розенберг воочию убедился, что это так, то воспользовался балетом как предлогом, чтобы сорвать наш спектакль. Но император может с ним не согласиться.
— Ведь именно Орсини-Розенберг просил меня написать оперу-буффа.
— На случай, если не найдется другой. Или если мы ему заплатим, как делает Сальери. Хотите испробовать такой способ?
Вольфганг отказался, самая мысль об этом была ему противна.
— В таком случае нам придется дать «Фигаро» в присутствии императора.
— Без балетной сцены?
— Разумеется.
— Но это же неразумно!
— Совершенно верно, — с хитрой улыбкой ответил да Понте. — В том-то все и дело.
Иосиф принял предложение да Поите посетить генеральную репетицию оперы. Приглашая императора, да Понте пояснил:
— Ваше величество, нам очень хотелось бы знать ваше мнение относительно оперы: вдруг вы решите, что необходимо внести какие-то поправки. Для нас важнее всего остального, чтобы вы, ваше величество, остались довольны.
Иосиф с большим удовольствием смотрел спектакль, пока дело не дошло до сцены балета, которая была заменена пантомимой. Тут император рассердился. Сюжет вдруг стал непонятен, когда до этого все было ясно и очень забавно, причем никаких скандальных выпадов против властей, чего он так опасался, не осталось. Иосиф приказал остановить репетицию и воскликнул:
— Да Понте, пантомима совсем не вяжется с оперой! Да Понте пожал плечами и вручил Иосифу либретто с восстановленной сценой балета.
— Так почему же этого нет в опере, синьор поэт? — спросил Иосиф.
— Ваше величество, господин директор объявил нам, что балет запрещен.
— Запрещен? — Император приказал немедленно вызвать директора.
Орсини-Розенберг, находившийся у себя в кабинете, тут же явился. Но не успел директор и рта раскрыть, как император сказал:
— Как вы осмелились дать такое распоряжение, не спросив меня?
— Ваше величество, вы изволили говорить, что балет на сцене запрещен.
— Когда он груб и непристоен, а здесь он вполне уместен.
— Ваше величество, а как же насчет самой «Свадьбы Фигаро»? Вы ведь запретили постановку пьесы?
— Потому что пьеса была безвкусна и полна непристойностей. А эта опера очаровательна.
— Кроме того, танцоры, которыми располагает Бургтеатр, вам не нравятся, ваше величество.
— Найдите таких, которые мне понравятся.
— Но, ваше величество, осталось так мало времени, я...
— На то моя императорская воля! — И когда директор стал подыскивать новую причину, Иосиф сказал: — Я очень разгневаюсь, если представление «Фигаро» и дальше будет откладываться. Мне не терпится узнать развязку.
— О, конец будет счастливый, ваше величество, — сказал да Понте. — Если нам позволят...
— Вам уже позволено. А теперь я подожду танцоров. Я намерен послушать всю оперу от начала до конца и тогда уж вынести свое суждение.
Двенадцать танцоров прибыли через несколько минут, и, пока они репетировали, Вольфганг повторил для развлечения императора несколько арий. Иосиф выразил желание послушать еще раз две арии графини: «Porgi Атог» («Бог любви, сжалься и внемли»), где она жалуется, что утратила любовь мужа, и «Dovo sono» («О, куда ж ты закатилось, солнце светлой былой любви»), где графиня с грустью вспоминает то время, когда ничто не омрачало их счастья. Эти арии тронули сердце Иосифа. Ему и самому пришлось страдать. Его первая обожаемая жена рано скончалась, так и не ответив на его любовь.
Императору понравился балет; юн развеял его меланхоличное настроение и, как оказалось, прекрасно соответствовал сюжету. Иосиф приказал назначить премьеру «Свадьбы Фигаро» на 1 мая, как ранее и намечалось.
Двумя днями позже, накануне премьеры, Вольфганг сел писать увертюру. Он уже несколько недель тому назад с величайшей дотошностью, до мелочей разработал всю партитуру, и теперь ему оставалось только записать ее. Вольфганг делал это в последний момент, чтобы оставить больше времени на репетиции остальной музыки, но еще заранее решил выразить в увертюре всю идею оперы. С самого начала нужно задать правильный тон. Он не стал вплетать в увертюру основные темы «Фигаро», как это было принято, но передал в ней темп и общее оживленное настроение, написав ее как самостоятельное инструментальное произведение, единственное в своем роде.
С того момента как Вольфганг появился за дирижерским пультом, Иосиф Гайдн, проделавший долгое и трудное путешествие из имения графа Эстергази в Вену с одной лишь целью присутствовать на премьере «Свадьбы Фигаро», не переставал радоваться, что не пожалел сил и приехал. Самообладание Вольфганга восхищало. Моцарт был всего пяти футов ростом, но когда он взмахнул руками, давая знак оркестру начинать, то словно вырос, поднялся и над оркестром и над стоявшим перед ним клавесином. В увертюре нет ни одной лишней ноты, думал Гайдн. Вольфганг, казалось, пританцовывал, дирижируя оркестром, вместе с ним весело танцевала и музыка, с первых же тактов настраивавшая участников спектакля на веселый лад.
Открывавшая оперу сцена Фигаро и Сусанны шла все в том же жизнерадостном темпе и совершенно очаровала Гайдна. К концу первого акта он словно перенесся в иной мир, более светлый, где его восприятие музыки обострилось до предела. Все актеры пели великолепно, кроме разве графа — Мандини: Мандини исполнял свою роль чрезвычайно неровно, казалось, не знал, как ему держаться на сцене. Но Вольфганг своим вдохновенным дирижированием раскрывал красоту музыки; он всех держал в своей власти — оркестр под его управлением аккомпанировал певцам, воодушевлял их, увеличивая выразительность пения, и при этом Вольфганг не позволял музыке заглушать певцов, даже когда он сам сидел за клавесином. К концу оперы Гайдн уже не сомневался в ее успехе. Однако, когда занавес упал, среди криков «браво» и аплодисментов явственно раздавались свистки и шиканье.
Многочисленные друзья окружили Вольфганга, горя желанием поздравить с успехом: первым ван Свитен — место, занимаемое им в венском музыкальном мире, давало ему па это право, за ним Ветцлар, графиня Тун, граф Пальфи, граф Кобенцл. А появление Гайдна вызвало у Вольфганга слезы. По тому, как крепко обнял его Гайдн, он понял — что бы ни говорили другие, он сумел выполнить задуманное. Однако долго разговаривать с Гайдном и другими друзьями Моцарту не пришлось — Орсини-Розенберг холодно сообщил, что его ждет император.
Иосиф принял композитора и либреттиста в королевской ложе.
— Браво! Синьор поэт, — сказал он, — вы доставили всем удовольствие. Надеюсь, вы не придали значения отдельным свисткам?
— Разумеется, нет, ваше величество. Чем больше зависти вызывает произведение, тем сильнее сам начинаешь верить в его достоинства.
— А вы, Моцарт, теперь видите, что итальянский язык более подходит для оперы, нежели немецкий?
Вольфганг ответил не сразу. Почему Иосиф берется судить о музыке, ведь познания его в этой области весьма поверхностны. Гайдн махал ему издали на прощанье рукой — спешил обратно к Эстергази, — а Вольфганг так мечтал провести с другом хоть несколько минут. Но император был явно недоволен заминкой в его ответе. И Вольфганг с поклоном сказал:
— Ваше величество, я прежде всего вижу, что опера заслужила вашу похвалу, что самое важное.
— О, это достойное внимания произведение, но слишком уж фривольное, вряд ли его запомнят надолго.
«Свадьба Фигаро» по приказу императора была включена в репертуар Национальной итальянской оперы, но, как и предсказывал Иосиф, недолго пользовалась успехом у публики. Венские меломаны утверждали, что музыка оперы чересчур немецкая по духу и ей не хватает задора и живости итальянской оперы-буффа. Музыка Моцарта не возбуждает у слушателей бурных чувств, как им того хотелось.
Когда в ноябре состоялась премьера новой оперы Мартин-и-Солера «Редкая вещь», быстро ставшей гвоздем сезона, Орсини-Розенберг объявил, что «Свадьбу Фигаро» после девятого спектакля в декабре месяце снимут с репертуара. Публика сходила с ума от нового танца, впервые показанного в опере Солера, — вальса. Танец этот, мелодия которого была заимствована из австрийской народной пляски, покорял сердца плавностью и своеобразным ритмом движений, а также подчеркнуто театральной манерой, с какой главные герои оперы его исполняли. Вальс имел ошеломляющий успех, обеспечивая успех и опере Мартин-и-Солера.
Да Понте не разделял отвращения Вольфганга, находившего текст оперы Солера и ее партитуру банальными и посредственными. Незамысловатый рассказ о том, как испанский принц влюбился в красивую крестьянскую девушку и завоевал ее любовь, пользовался таким успехом, что да Понте мог сам теперь выбирать композитора по вкусу; даже Сальери снова мечтал с ним работать. Либретто к опере «Редкая вещь» написал да Понте, и Моцарт убедился, что либреттист порой играет более важную роль, нежели композитор.