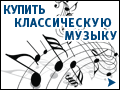По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Вэйс. «Возвышенное и земное». «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан». 79
В эти дни Вольфгангу трудно было сохранять обычную жизнерадостность — его сын, родившийся в октябре, умер через четыре недели от удушья.
Холодным, серым ноябрьским утром, на другой день после похорон Иоганна Леопольда, Вольфганг лежал в постели и думал о своих умерших детях: что бы из них получилось, не умри они в младенчестве. Он не спал почти всю ночь — больные почки снова давали себя знать, но лечение причиняло не меньше мук, чем сама болезнь. Каждый раз, бегая вниз в уборную, он промерзал насквозь, возвращался в постель с ломотой во всем теле и долго лежал в кровати, не в силах заснуть, со страхом думая, что болезнь может поразить и руки.
Констанца проснулась, и он предложил приготовить завтрак. Ей следует полежать в постели, сказал он, последние шесть недель были так мучительны для нее, что ей необходимо отдохнуть.
Но Констанца села на кровати — она спала не раздеваясь, лишь сняв туфли: как только в спальне переставали топить печь, комната моментально остывала. И к тому же Вольфганг, боясь угара, вечно держал окно настежь.
— Как я могу спать, — печально сказала Констанца, — когда Иоганн Леопольд лежит в могиле!
— Из трех детей похоронить двоих! За что такая несправедливость?
— Это судьба! — Она заплакала. Он пытался утешить жену:
— У нас будет еще ребенок, и еще...
— И все умрут, как и эти. Не надо больше детей. — Но, заметив уныние, отразившееся на его лице, добавила: — По крайней мере некоторое время. Пока мы не в силах о них лучше заботиться.
Вольфганг уставился в окно на Блютгассе: несколько минут ходьбы — и переулок приведет прямо к Орденскому дому, где его когда-то спустили с лестницы; успех «Фигаро», надеялся он, навеки изгладит этот позор из его памяти. И вот теперь нет больше заказов на оперы, а подписка на его концерты совсем прекратилась. Последние два концерта прошли при наполовину пустом зале, и Вольфганг потерял много денег. Потому он и сочинил всего два концерта для фортепьяно — спрос на его исполнение сильно упал. Возможно, в ближайшее время придется съехать с этой квартиры — плата становится не по карману. Нет, прочь грустные мысли! Вольфгангу вдруг захотелось обнять жену. Но Констанца испуганно отстранилась.
— Нет, не надо. Я не хочу больше детей.
За завтраком он завел разговор о другом волновавшем его вопросе.
— Станци, мне хочется пригласить О’Келли, Эттвуда и Сторейс. Сделай это.
— Почему ты сам не пригласишь? Ты знаком с ними гораздо ближе, чем я.
— Лучше, если приглашение будет исходить от хозяйки дома.
— Из-за Энн Сторейс? Думаешь, сплетни прекратятся?
— Причин для сплетен нет никаких. Мне просто хотелось, чтобы вы подружились.
— Раз уж нам приходится делить тебя, — ядовито заметила Констанца.
— Нет, потому что они приглашают нас в Англию.
— И меня тоже? — недоверчиво спросила она.
— Разумеется, Станци. Неужели я поехал бы без тебя? — Голубые глаза его сделались веселыми, щеки от волнения порозовели, а пальцы барабанили по кухонному столу, словно он сидел за фортепьяно. Вольфганг подхватил Констанцу и закружил по гостиной, и столько нежности и любви было в его движениях, что она уступила, позволила подвести себя к столу и написала приглашения.
Констанца оделась, как на бал, а на Энн было простенькое платье. Констанца думала, что примадонна будет держать себя с ней свысока, но Энн с искренней теплотой поблагодарила хозяйку за любезное приглашение. Они и раньше встречались, но то были мимолетные встречи, а сегодня состоялось их настоящее знакомство. Брата Энн Констанца знала лучше — Стефан Сторейс и Томас Эттвуд регулярно приходили к ним, оба брали у Вольфганга уроки композиции. А с Михаэлем О’Келли Вольфганг любил сразиться па бильярде и постоянно обыгрывал его, а тот не уставал превозносить мастерство своего противника. Констанцу пленили изящество и непринужденность манер Энн. В своем излишне парадном платье, с тесным, глубоко вырезанным лифом, Констанца чувствовала себя неловко — зачем она так вырядилась, но Вольфгангу нравилось. Он несколько раз с нескрываемым восхищением оглядел ее аккуратную, миниатюрную фигуру, пока они шли к столу, где служанка подавала обед.
После обеда была неизменная игра на бильярде — состязались Вольфганг и О’Келли, и окончилась игра неизменной победой Вольфганга. Тогда О’Келли, желая показать, что и он кое на что способен, стал имитировать да Понте. Делал он это весьма искусно: чем изящнее старался держаться поэт, тем более нелепое впечатление производил.
И вдруг Эттвуд, в отличие от О’Келли настроенный очень серьезно, спросил:
— Маэстро, вы подумали о поездке в Англию?
— Думал, и немало, Эттвуд. Надеюсь, вам удастся уговорить Констанцу.
— Госпожа Моцарт, маэстро будет пользоваться в Англии огромным успехом, — сказал Эттвуд.
Вроде как в Вене, с горечью подумала Констанца, но не дай бог произнести это вслух — Вольфганг обидится.
— Я с радостью поеду за ним куда угодно, — ответила она.
— Если вы с Вольфгангом к нам присоединитесь, мы будем очень рады, — сказал Эттвуд. — Ваше присутствие придаст вес нашей маленькой труппе.
Все они еще так молоды, размышляла Констанца. Эттвуду и Энн Сторейс всего лишь по двадцати одному году, Стефану Сторейсу только исполнилось двадцать три, О’Келли — двадцать пять. Они не способны понять ее опасения. И хотя ей самой было всего двадцать пять, она чувствовала себя намного старше их.
— Каким путем вы поедете?
— Через Зальцбург, — сказал Сторейс, — это доставит вам обоим удовольствие.
Вольфганг радостно улыбнулся, а Констанца поморщилась и промолчала.
— Оттуда мы двинемся в Мюнхен и Мангейм, где маэстро так знаменит.
Вольфганг кивал: план нравился ему все больше и больше.
— С остановкой в Париже. Я написал Легро, что вы, возможно, поедете с нами, и он не замедлил отозваться, сообщил, что с радостью устроит в Париже ваш концерт.
— После того как он так несправедливо обошелся с моим мужем! — воскликнула Констанца. — Вольфганг, можно ли ему доверять?
— А я и не доверяю. Но не вижу причин его ненавидеть.
— Закончим мы наше путешествие в Лондоне, — продолжал Сторейс, — где до сих пор с большой теплотой вспоминают ваши гастроли, маэстро, и где вы наверняка завоюете симпатии публики.
— Лондонцы придут в восторг от вашей музыки, маэстро, — сказала Энн, — как и все мы.
— Видишь, Станци, какое великолепное предложение. Ей не хотелось показаться брюзгой, но кому-то ведь надо проявить практичность.
— А как быть с Карлом Томасом? Брать его с собой в такое далекое путешествие неразумно.
— О нем может позаботиться Папа.
— Ты его уже просил?
— Нет, но Папа воспитывает сына Наннерль. Почему бы ему не позаботиться и о нашем?
Констанца не разделяла его оптимизма, но гости вели себя так, будто вопрос уже решен, и обсуждали, какие произведения Вольфгангу следует взять с собой.
Сторейс сказал:
— Вы должны выступить в Лондоне со своим до минорным концертом для фортепьяно. В нем столько глубины, величия, силы. У меня в голове не укладывается, можно ли после этого концерта говорить, будто ваша музыка только легка и грациозна.
— Но ведь говорят же, — печально произнес Вольфганг. — Когда я сочиняю в минорной тональности, находят, что музыка моя слишком тосклива и бездушна.
— Бездушна! — воскликнула Энн. — Я не знаю более задушевной музыки, чем ваша.
— Что касается меня, — сказал Эттвуд, — я предпочитаю ваш новый концерт до мажор, который вы исполняли последний раз. В нем столько подлинного чувства. Но ставить одно произведение выше другого глупо. Меня глубоко трогает вся ваша музыка. Сколько фортепьянных концертов вы сочинили за последние два года, маэстро?
Вольфганг заглянул для точности в свой тематический каталог, а затем с удивлением объявил:
— Двенадцать с 1784 года, — и грустно добавил: — Некоторые я успел позабыть.
— Двенадцать за два года? — Эттвуд был изумлен.
— А чему тут удивляться? Если музыка у вас внутри, она непременно должна вылиться наружу.
— Но так много за такое короткое время!
— Эттвуд, количество не имеет значения. Никого не трогает, сколько вы сочинили концертов — двенадцать или один. Единственно, что от вас требуется, — писать музыку им по вкусу.
— И тем не менее каждый ваш концерт прекраснее предыдущего!
— Я все их люблю одинаково, — с упреком проговорил Вольфганг.
— Вне всякого сомнения, маэстро! — воскликнул Сторейс. — Но каждый раз, думая о концерте до минор, я говорю себе: по сравнению с вами я обыкновенный дилетант.
— Вы оперный композитор, и притом хороший.
— Может быть, и хороший, но не Моцарт.
— Вы думаете, такое уж счастье быть Моцартом?
Наступила секунда неловкого молчания. Вольфганг подошел к высокому итальянскому окну гостиной, выходящему на улицу. Сколько было радужных надежд, когда он переселялся в эту квартиру! Но жалость к себе всегда вызывала у него презрение — не нужно поддаваться этому чувству. И по отношению к гостям несправедливо. Повернувшись, он выдавил улыбку, но Энн заметила его бледность и погрустневшие глаза.
— Вы должны поехать в Лондон, там вас оценят по достоинству, — сказала Энн.
— И взять с собой квартеты, посвященные Гайдну, — добавил Сторейс. — В Англии Гайдн очень известен.
— Я пытался продать их здесь, отдельными экземплярами или по подписке, но они так и не разошлись, — сказал Вольфганг. — Это не легкая музыка, они слишком необычны.
— Квартеты слишком хороши для венской публики, — с внезапным пылом заявила Энн. — Вам нужен надежный антрепренер, маэстро, человек, который вел бы ваши дела.
Констанца поднялась, давая понять, что вечер окончен. Ей уже не хотелось ехать в Англию. Сторейс говорил: репутация Моцарта в Англии стоит так же высоко, как Пурселя и Генделя, но ее вдруг охватило отчаяние. Там она не сможет соперничать с Энн. И вовсе не потому, что примадонна такая уж красавица, да и сопрано у нее хоть и приятное, но отнюдь не из ряда вон выходящее, нет, дело в другом — в музыкальности Энн: в сфере музыки они с Вольфгангом всегда найдут много общего. Энн будет петь арии, написанные им, а это всегда действует на него притягательно. Да и английскому ей не выучиться, тогда как Вольфганг уже сейчас свободно владеет этим языком.
Энн понимала чувства, испытываемые Констанцей, и ее это забавляло. По натуре жена Вольфганга обыкновенная экономка. Видимо, его сильно влечет к ней физически, думала Энн, другого объяснения такой верности не найдешь. Нет, есть и другие причины, решила Энн. Вольфганг — натура слишком тонкая, чтобы любить женщину только за это. Нужно действовать осторожно. В Лондоне она начнет выступать вместе с ним, и тогда многое изменится.
Взгляды двух женщин на какое-то мгновение встретились, но они тотчас их отвели, а Вольфганг стоял молча, погруженный в свои раздумья.
Прочитав письмо сына с просьбой взять на себя заботу о Карле Томасе на то время, что они с Констанцей пробудут с английскими друзьями в Лондоне, Леопольд понял: за этим кроется нечто большее, чем просто жажда нового. Тон письма был взволнованным, в нем сквозило страстное желание, несмотря ни на что, совершить сей опрометчивый шаг. До Леопольда дошли слухи о романе Вольфганга с его Сусанной — он так много проводил с нею времени на репетициях, что этого следовало ожидать. Леопольд написал ответ, взвешивая каждое слово — так взвешивал он каждый звук, сочиняя музыку, — но, отослав письмо, испугался — не испортить бы вконец отношений с сыном, и решил поделиться сомнениями с дочерью.
«Вольфганг просил меня взять на себя заботу о его сыне — он хочет этой весной совершить поездку по Германии и оттуда поехать в Англию, где, видимо, намерен поселиться. Друзья Вольфганга — англичане, возвращающиеся к себе домой, — внушили ему, будто в Англии он будет процветать, давая концерты по подписке и получая заказы на оперы. В особенности старается госпожа Сторейс — она, несомненно, и придумала весь этот план и разожгла его аппетит.
Узнав, что маленький Леопольд живет со мной, Вольфганг, но всей вероятности, предположил, что у меня хватит места и для другого внука. Вольфганг забывает: в случае, если здоровье мое пошатнется, ты рядом, а Англия далеко за морями. Поэтому я отказал ему, поступив в данном случае как друг и как отец.
Твой брат и его жена считают, по-видимому, что очень хорошо придумали — они будут мирно путешествовать, тогда как я в свое время колесил по всей Европе с двумя маленькими детьми. А если они вдруг умрут или осядут навсегда в Англии, тогда ребенок останется у меня на руках. Правда, он предлагает платить за сына достаточно, чтобы нанять служанку, но откуда мне знать, исполнит ли он обещание? Я слышал, концерты по подписке почти не продаются, и нет никакой уверенности в том, что я действительно получу эти деньги. И хотя „Фигаро“ прелестная опера и Вольфганг в ней превзошел себя, но нет никакой надежды, что англичане окажутся более просвещенной нацией, чем венцы, предпочитающие Сальери и веселые мотивчики этого Мартин-и-Солера, которые можно насвистывать себе под нос.
Поэтому я написал ему отеческое письмо, сказал, что, прибыв в Англию летом, в мертвый сезон, он ничего не заработает; чтобы покрыть расходы на такую поездку, потребуется не меньше двух тысяч гульденов, а у него сейчас их, конечно, нет. И дал твердый и разумный совет: постараться достичь большего в Австрии, где он по крайней мере может говорить на родном языке и где он достаточно известен».
Но хотя в письме Леопольд высказался с полной определенностью, в глубине души его продолжали терзать сомнения. Много ночей провел он без сна, а если засыпал, то мучился тяжелыми сновидениями. Часто ему являлась Анна Мария — то ли звала его куда-то, то ли в чем-то упрекала. Проснувшись, Леопольд старался уверить себя, что поступил правильно, отказав сыну: ведь во всей семье никто лучше его не знал, как устраивать гастрольные поездки. Если сын потерпит провал в Англии, отступать будет некуда. Леопольд думал о книге, которую так и не написал, о дневнике, который забросил, о бесчисленных своих письмах. Теперь уже поздно исправлять что-либо в судьбе сына. Бывали дни, когда Леопольд чувствовал себя таким измученным — просто жить не хотелось. Но он горд, он не станет напоминать детям, что смерть его не за горами. Интересно, свидятся ли они когда-нибудь с Анной Марией? Где то время, когда Моцарты являли собой единую семью? Дети его, по крайней мере знали, что такое материнская и отцовская любовь, утешал себя Леопольд.
Вольфганг укладывал вещи, готовясь к поездке в Англию, когда пришел ответ от Папы. Впервые в жизни он не нашел в себе сил простить отцу такое равнодушие. Страшное разочарование овладело им. Он знал — если не поедет в Англию сейчас, то уж никогда не отважится на такую поездку. Но оставить Карла Томаса с госпожой Вебер немыслимо, путешествие могло затянуться надолго. Возможно, отец и прав. И хотя Вольфганг так и сказал Констанце, в глубине души не мог смириться; на этот раз он не хотел прислушиваться к Папиному совету и очень удивился, когда Констанца выразила полное согласие с мнением Леопольда. Наверное, Папа себя неважно чувствует, думал он, другой причины, оправдывающей Папин отказ, нельзя себе представить.
Очень расстроенный, Вольфганг как раз объяснял Сторейсам, что поездка в Англию не состоится, когда пришло письмо — его приглашали посетить Прагу и побывать на представлении «Свадьбы Фигаро», опера шла там с огромным успехом. А граф Иоганн Тун, свекор Вильгельмины Тун и глава этого влиятельного австрийского семейства — тот самый, для кого Вольфганг написал свою Линцскую симфонию, — пригласил Моцартов во время пребывания в Праге погостить у него в доме.
Столица Богемии находилась всего в нескольких днях пути от Вены. Без дальнейших раздумий Вольфганг решил оставить сынишку на попечение тещи и поехать в Прагу с Констанцей — на каникулы, давно ей обещанные.
Одновременно покинул дом Вольфганга Ганс Гуммель. Мальчик отправился с отцом в гастрольную поездку по Германии в качестве ученика Моцарта, чудо-ребенка.
Вольфганг решил поднести Праге подарок — новую симфонию.
В этой симфонии он выразил не только свои чувства, но и чувства Констанцы. С того момента как было решено ехать в Прагу, она забыла про Энн Сторейс и изо всех сил старалась снять с Вольфганга все заботы. Ему нужно закончить симфонию — подарок Праге. Каждую ночь она зажигала свечи и наполняла чернильницу, следила за тем, чтобы у него под рукой были свежие перья и нотная бумага. Она подолгу наблюдала за ним — как он сидел, склонившись над столом, выпучив глаза и надув щеки, все внимание сосредоточив на партитуре. Вольфганг не возражал против ее присутствия, был скорее даже рад. Констанца не переставала дивиться его способности сочинять музыку, не обращая ни малейшего внимания на то, что делается вокруг. Но он объяснил ей, что сочиняет по большей части мысленно, когда остается наедине с самим собой либо когда в одиночестве бродит по улицам.
Как-то вечером в начале января 1787 года, когда Констанца сидела рядом и пришивала пуговицу к его зимнему пальто — Прага севернее Вены и там могли уже наступить холода, — он вдруг вскочил и стал танцевать, напевая тихонечко только что записанную мелодию. По-видимому, он остался доволен, потому что сразу же снова уселся за стол.
Протекло много часов. Констанца не жаловалась, ей так нравилось сидеть с ним рядом. Он писал и писал, не замечая времени. Свечи догорали, капли сала начали падать на нотную бумагу, он подвинулся к угасающему огарку, но мысль сменить свечу, очевидно, не приходила ему в голову — он не хотел отвлекаться. Зато свежие, чистые перья Вольфганг любил и гордился своим аккуратным почерком. Он умел писать ровно и без линеек.
Как странно, с нежностью думала Констанца, Вольфганг писал с лихорадочной быстротой, спеша закончить последнюю часть симфонии до отъезда в Прагу, намеченного на завтра, сидел, скрестив ноги, сдвинув на затылок парик, который в пылу чувств принимался теребить, и наносил на, бумагу крохотные значки, а она смотрела на него и даже сейчас, после стольких прожитых вместе лет, все удивлялась тому, как эти беглые записи порождают дивные, волшебные звуки. Внутренним чутьем она понимала: музыка, которую он пишет, совершенно особенная. Чувство благодарности и печали, сильное душевное волнение и сознание собственной силы переполняли его. Время от времени он взмахивал рукой, дирижируя музыкой, звучавшей в нем. Какой великолепный ритм! Он пристукивал ногой, закрывал глаза, к чему-то прислушиваясь. Склонял на минуту голову, а потом поднимал ее, и легкая улыбка скользила по губам, словно то, что он услышал, ему понравилось, и снова торопливо принимался писать. Кончит ли он когда-нибудь, думала Констанца, ведь выезжать им рано поутру, но разве уговоришь его пойти поспать. Нет, только не сегодня! Если Вольфгангу захочется иметь еще детей, думала Констанца, она подарит ему ребенка, чего бы это ей ни стоило. Левая кисть его сжалась в кулак, и ей вдруг так захотелось подбежать и сказать: этот пассаж прекрасен, он должен быть прекрасен! Но Вольфганг и сам знал. Потом вдруг кулак разжался, он развел руками, будто дирижируя оркестром, и снова встал из-за стола. Симфония окончена, подумала она, но он опять бросился к столу и со вздохом стер только что написанное. Несколько нот смазалось — это всегда его раздражало. Констанца подала чистую промокательную бумагу, он молча взял и снова погрузился в работу, и в ту самую минуту, когда она подумала, что симфонии не видно конца, Вольфганг улыбнулся и объявил; — Готово!
— Совсем? — не удержалась она. Вид у него был такой будничный.
— Разумеется. Я сказал то, что хотел сказать.
— Надеюсь, Праге симфония понравится.
— Обязательно понравится! — И он пылко поцеловал Констанцу, весь переполненный ощущением радости бытия — чувства, испытываемого им лишь в моменты наивысшего творческого удовлетворения. — И тебе понравится — моему первому слушателю.