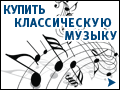По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Вэйс. «Возвышенное и земное». «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан». 77
Либретто «Директора театра» оказалось незамысловатым по сюжету — рассказ о том, как соперничали две примадонны, желающие завоевать благосклонность директора театра; для зингшпиля требовалось сочинить только четыре арии а увертюру. Стефани представил Вольфгангу, по существу, голую схему одноактного зингшпиля, а композитору предстояло вдохнуть в нее жизнь. Либретто Стефани оказалось бесцветным, в нем не было мест, которые просились бы на музыку. Поэтому Вольфганг сосредоточился на ариях — блестящих и лирических — и написал выразительную мелодичную увертюру, а самого его все сильнее и неотступней тянуло к «Фигаро». Но приходилось ждать, пока не будет поставлен зингшпиль. Неразумно продолжать работу над оперой-буффа, пока нет уверенности, что ее разрешат к постановке.
Вольфганг вернулся к работе над другими произведениями. Концертов по подписке в этом, 1786 году, он давал не так много, как в прошлом, хотя несколько и было намечено на великий пост, и несмотря на то, что за прошлый год он заработал на концертах но подписке около трех тысяч гульденов, от них уже ничего не осталось. Ни Вольфганг, ни Констанца не знали, куда ушли деньги, и снова возникла необходимость зарабатывать на жизнь. Вольфганг больше не записывал приход и расход: это отвлекало от работы, тревожило, а ему приходилось беречь силы для более важных дел — для сочинения музыки, выступлений, преподавания, — хотя уроки он по-прежнему терпеть не мог. Свои новые сочинения он все так же аккуратно вносил в тематически" каталог. За последние два месяца прибавились следующие:
Песня для фортепьяно — из «Фиалки» Гете
Соната для фортепьяно и скрипки ми-бемоль мажор
Рондо для фортепьяно ре мажор
Сцена и рондо для сопрано — для Алоизии Ланге
Дуэт и ария для частного исполнения «Идоменея» Концерт для фортепьяно ми-бемоль мажор Концерт для фортепьяно ля мажор «Директор театра» — зингшпиль.
«Директор театра» удостоился похвалы императора и его высокопоставленных гостей, и Торварт вручил Вольфгангу пятьдесят дукатов. Сальери, по слухам, получил за свою оперу сто дукатов, и Вольфгангу обещали за «Свадьбу Фигаро» тоже заплатить сотню дукатов, если опера не даст императору повода для раздражения. Постановка оперы намечена на 1 мая, сказал Орсини-Розенберг.
До 1 мая оставалось меньше трех месяцев, а предстояло еще столько сделать, тем не менее Вольфганг склонил голову в знак согласия и ответил:
— Благодарю вас, ваше сиятельство, за поддержку. — Вольфганга удивило, что, прощаясь с ним, директор нахмурился.
Вольфганг сказал об этом да Понте, и тот с проницательной усмешкой заметил:
— Сальери подозревает, что «Фигаро» может иметь громкий успех, и поделился этим с Орсини-Розенбергом. Их гложет зависть. А кроме того, вы же ничего не дали директору, не так ли, Вольфганг?
— Нет. А что, нужно было дать?
— У композиторов и либреттистов, пользующихся монаршей милостью, вошло в обычай в знак признательности делать подарок директору. Десять дукатов, если получили пятьдесят... Или двадцать, если получили сто. Или хотя бы посвятить ему свое произведение.
— По что директор сделал? Для нас?
— Дело в том, что он мог сделать. Против нас.
— Что же вы посоветуете?
Да Понте, как и Папа, хорошо разбирался в подобных долах.
— До тех пор пока к нам благоволит император, Орсини-Розенберг бессилен навредить. И потом, даже если мы будем расстилаться перед ним или давать ему подачки, оп все равно предпочтет Сальери. Но не беспокойтесь, император ко мне милостив, и я позабочусь обо всем. Шиканедер разговаривал со мной об одном мальчике-вундеркинде, сыне Гумме-ля. Хочет, чтобы вы его послушали.
— Да, но у меня нет ни минуты времени, — взмолился Вольфганг.
— Вы послушаете его игру?
— А что мне остается? Шиканедер и папаша Гуммель — друзья.
Но с восьмилетним Гансом Гуммелем к Вольфгангу явился не Шиканедер, а отец мальчика — музыкальный директор Шиканедера. Шиканедер просил передать Моцарту, что сам он очень занят. Вольфганг напряженно работал над «Фигаро» — наконец-то появилась возможность сочинять музыку, о какой он мечтал уже много лет; тем не менее он любезно поздоровался с гостями, провел их в гостиную и сказал:
— Мой дорогой Гуммель, очень рад вас видеть. Садитесь, пожалуйста, садись и ты, мой юный друг!
Гости испытывали некоторую растерянность.
— Что вас ко мне привело? — спросил Вольфганг с легкой насмешкой в голосе.
— Господин Моцарт, послушайте, пожалуйста, моего сына. Быть может, вы не откажетесь давать ему уроки.
— Но вам, должно быть, известно, что я не люблю давать уроки. Это отнимает у меня слишком много времени и мешает писать музыку.
Однако, взглянув на огорченное лицо мальчика, он прибавил:
— Ну хорошо, покажи, на что ты способен.
Мальчик уселся за фортепьяно и заиграл вещь «английского» Баха; Вольфганг слушал с бесстрастным выражением, но чем дальше играл мальчик, тем внимательнее становился Моцарт, глаза его загорелись от волнения и удовольствия и стали удивительно красивыми. Он подтолкнул отца в бок, выражая свое одобрение, и удовлетворенно кивнул. Когда мальчик закончил Баха, Вольфганг поставил перед ним одно из своих сочинений — вещь гораздо более трудную, чтобы посмотреть, насколько хорошо Ганс читает с листа. И когда тот заиграл еще более гладко, словно обретя уверенность, Вольфганг вдруг наклонился и шепнул отцу:
— Пусть ваш сын останется у меня. Из него может кое-что получиться.
— Не понимаю вас, маэстро.
Вольфганг подошел к мальчику, ласково потрепал его по голове и сказал:
— Ты играл превосходно. Играй так всегда, и ты многого достигнешь.
Взяв мальчика за руку, он ласково усадил его на диван, а затем повернулся к отцу:
— Значит, решено, я берусь обучать Ганса, но ему придется у меня жить, я не хочу спускать с него глаз. Уроки, квартира, еда — все будет бесплатно. Вам не придется ни о чем заботиться. Согласны?
Гуммель-старший пылко обнял Вольфганга и стал горячо благодарить. Какой прекрасный человек! Теперь-то Гуммель не сомневался — его Ганс непременно станет вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом!
Ганс Гуммель переехал в дом к Моцартам и был принят как родной сын. Правда, Констанца протестовала, у них и без того много трудностей и забот, чтобы браться за воспитание чужого ребенка, но Вольфганг стоял на своем.
— Из него выйдет гениальный музыкант.
— Ты и так не знаешь, куда деваться от учеников.
— Из Ганса может кое-что получиться, не в пример прочим.
Констанца поняла, что спорить бесполезно, и постаралась примириться с новым положением. Ганс оказался милым ребенком, во всем беспрекословно слушался Вольфганга; он даже научился подражать его манере исполнения и проявлял блестящие музыкальные способности, И хотя Констанца не могла подавить недовольство, она отлично видела: Ганс сделался для Вольфганга не только одаренным учеником, глядя на него, Вольфганг снова переживал детство и горячую привязанность к отцу.
Как-то вечером, спустя несколько недель после того, как Ганс поселился у них, вернувшись домой от друзей, они кашли мальчика в гостиной — он сладко спал, растянувшись на сдвинутых вместе стульях. Была уже полночь, но Вольфганг и не думал отправлять Ганса в спальню. Новая, написанная им соната для фортепьяно только что пришла от переписчика, и ему не терпелось ее послушать.
— Станци, разбуди Ганса, только осторожно, не испугай, а потом дай ему рюмку вина — пусть взбодрится.
Однако игра Ганса огорчила Вольфганга — мальчик, обычно так уверенно читавший с листа, на этот раз с трудом разбирал ноты и никак не мог сосредоточиться. Но он не стал бранить ученика — на дворе была ночь, Ганс устал и хотел спать. И тут Вольфганг вдруг обнаружил причину растерянности мальчика. Сукно бильярдного стола оказалось порванным, по всей видимости кием. На мгновение Вольфганг пришел в ярость. Испортить его любимый бильярдный стол! И ведь он запретил Гансу подходить к бильярду без разрешения.
Ганс расплакался. Вольфганг, не выносивший слез, приласкал его.
— Разве он знал, что так получится? Папе, видимо, но легче со своим внуком, правда, Станци?
Констанца молчала. Леопольд, забрав к себе сынишку Наннерль, казалось, всю любовь и заботы перенес на внука в ущерб сыну. Интересно, задевает ли это Вольфганга, думала она. Он и словом не попрекнул отца, но они теперь гораздо реже писали друг другу.
Леопольда очень огорчало, что Вольфганг почти прекратил с ним переписку. С тоской в сердце стоял он у окна в Танцмейстерзале. Вот уже которую неделю из Вены никаких вестей. Присутствие в доме восьмимесячного внука доставляло Леопольду огромную радость, но ребенок еще слишком мал, рано его учить, как он учил маленького Вольфганга. Почтовая карета не показывалась, запаздывала из-за плохой погоды — в зимнее время такое случалось нередко. Оставалось одно: написать Наннерль. С дочерью, живущей в Санкт-Гильгене, он часто переписывался.
«Маленький Леопольд любит слушать, как я играю. Он тут же перестает плакать, и я лелею надежду, что у него окажется моцартовский слух. Дал бы только господь побольше сил, чтобы успеть воспитать его: порой я чувствую себя таким старым, неужели мне всего шестьдесят шесть? Уже несколько недель от твоего брата не приходило ни строчки, и здесь, по существу, нет ни одного умного человека, с кем можно было бы отвести душу. Прости, если я надоедаю тебе своим брюзжанием, но большинство сведений о твоем брате приходит ко мне из чужих рук.
Император согласился на постановку „Свадьбы Фигаро“, и в последнем письме брат твой объяснял, что все свободное время отдает опере, потому и не пишет. Я нахожу сюжет „Фигаро“ скучноватым, слишком уж много там всякой интриги и суетни, для оперы эту вещь придется значительно перерабатывать. И все-таки я уверен, что музыка понравится. Надеюсь, она окупит силы и нервы, затраченные Вольфгангом на споры и ссоры, без которых, конечно, не обойтись. Говорят, правда, что этот да Понте, пишущий либретто, — человек далеко не глупый. Ему придется пустить в ход все свои способности, чтобы ублажить Иосифа».
На следующий день от Вольфганга пришла посылка с нотами и короткое письмо — он чрезвычайно загружен, сочиняет, распределяет роли и переделывает арии, так что времени сесть за письмо просто не остается. Он посылает Леопольду два новых фортепьянных концерта, сонату для фортепьяно и скрипки и две арии из новой оперы.
Леопольд, изнывавший от скуки и жалости к себе, вдруг нашел занятие. Арии «Фигаро» оказались столь блестящи, что Леопольду и самому захотелось их спеть, а ария графини, дышавшая нежностью и сладостным томлением любви, заставила его даже прослезиться. Но потом практические соображения взяли верх, и он написал Вольфгангу, что арии хоть и прекрасны, но очень трудны: для их исполнения потребуются великолепные голоса и много времени на репетиции.
Вольфганг отозвался на Папино письмо тотчас же и сообщил, что впервые в жизни располагает певцами, достойными исполнять его арии.
Вольфганг знал всех певцов и остался доволен распределением ролей. Роль Фигаро, как он и рассчитывал, была поручена Бенуччи. Луиза Лаччи, в концерте которой он принимал участие и от голоса которой был в восторге, пела партию графини. Партию Керубино исполняла Доротея Бусани — ее сопрано Вольфгангу тоже нравилось, а муж Доротеи, Франческо Бусани — прекрасный актер и певец, — исполнял роли Бартоло и Антонио. Партия графа Альмавивы досталась Стефано Мандини — он мог произвести должное впечатление, но в отношении этого певца у Вольфганга были некоторые сомнения: дело в том, что Мандини был другом Сальери. Небольшую, но важную роль Марцелины исполняла жена Мандини — Мария. Михаэль О’Келли, тоже прекрасный актер и певец, пел дона Базилио и дона Курцио. Сусанну пела его любимая певица Энн Сторейс.
Энн Сторейс и Михаэль О’Келли составляли половину, по выражению Вольфганга, «английской колонии». Вторую половину этой — колонии представляли двадцатидвухлетний брат Энн Стефан Сторейс и Томас Эттвуд, двадцати одного года, — молодые, многообещающие английские композиторы, изучавшие у Вольфганга искусство композиции.
Когда репетиции мало-помалу наладились, Вольфганг стал заниматься с главными исполнителями, готовить с ними роли, одновременно работая над партитурой оперы. Могучий бас Бенуччи звучал убедительно и страстно и в то же время свободно и легко; единственным слабым местом Бенуччи были верхние ноты, которые он иногда не дотягивал, да еще, пожалуй, склонность позировать. Но Бенуччи был в восторге от своей партии и беспрекословно слушался Моцарта во всем.
Графиня — Лаччи тоже вполпе удовлетворяла всем требованиям Вольфганга, но вот граф — Мандини причинял ему много тревог. Мандини, несомненно, был тонким актером, обладал сильным голосом и мог бы справиться с ролью, но он жаловался на отсутствие выигрышных арий и уверял, что не может петь с чувством, если герой его лишен всяких чувств.
Керубино — Доротея Бусани и Бартоло — в исполнении ее мужа пели прекрасно; кроме того, Вольфганга очень трогала игра О’Келли. Комический талант, которым обладал этот тенор ирландско-английского происхождения, доставлял Вольфгангу истинное наслаждение, и они близко сошлись с Михаэлем.
Но больше всех волновала Вольфганга Энн Сторейс. Отец Энн, итальянский музыкант, живущий в Лондоне, сам учил музыке ее и Стефана, а мать-англичанка много занималась общим образованием Энн. В двадцать один год Энн была грациозной темноволосой красавицей, наделенной на редкость музыкальным сопрано. Были в ее исполнении изящество и задушевность, достичь которых не удалось даже Алоизии Ланге, и играла она с задором, но не теряя чувства меры. Энн с таким благоговением изучала музыку Моцарта, что он был растроган. Она горела желанием учиться у маэстро.
Однажды, репетируя с ним еще не вполне законченную арию, с которой она обращается к Керубино, Энн остановилась на полуслове. Они репетировали в Бургтеатре, в полном одиночестве, и Вольфганг ожидал — вот сейчас Энн начнет жаловаться, что хоть она и героиня, но это ее первая сольная партия на протяжении целых двух актов, да и то не слишком выигрышная. Но Энн сказала:
— Керубино должен как-то отзываться на мои слова. Иначе получается неубедительно. Как, по-вашему, маэстро?
— Игра Керубино будет отвлекать внимание от вашего пения.
— Но вы всегда говорите, что музыка должна двигать действие.
— Да, это так. — Когда постепенно и подолгу работаешь вместе, легко либо возненавидеть друг друга, либо... Может, Энн кокетничает с ним? Вольфганг чувствовал, что нравится Энн, она всегда старалась улучить момент и побыть с ним наедине. Это первая певица после Алоизии, к которой его сильно влекло. А какая она превосходная актриса! Он оставил когда-то пленившую его мысль сделать певицу из Констанцы. У Станци нет к этому призвания, а вот Энн Сторейс под силу любая из его арий. С пей можно даже обсуждать вопросы композиции, в то время как на Констанцу эти вещи навевают тоску. Но ведь он же счастлив со Станци. Вольфганг постарался взять себя в руки и сделал строгое лицо.
— Вам нездоровится? — Ей показалось, что он сильно побледнел.
Почему нельзя одновременно любить двух женщин? Он почувствовал, как нужна ему Энн, и ему вдруг стало очень тоскливо.
— Может, вам прилечь, Вольфганг? В моей уборной есть диван.
Это приглашение, подумал он и тут же усомнился. Но ведь ни для кого не секрет, что на оперных репетициях композиторы сплошь и рядом предаются утехам любви с примадоннами, якобы для того, чтобы вдохнуть жизнь в любовные сцены. Вольфганг последовал за Энн в ее уборную. Голова и правда слегка кружилась — он переутомился в последние дни, но, посидев немного, Вольфганг пришел в себя. Уборная Энн была кокетливо, уютно обставлена, а на столе лежала партитура «Похищения из сераля».
— Вы знаете мою оперу? — удивился Вольфганг.
— Знаю, и очень хорошо. Замечательная музыка. Мне бы так хотелось спеть Констанцу. Но «Фигаро» будет еще лучше.
— Вы серьезно так думаете?
— Вольфганг, я пою в онере с четырнадцати лет. Пела арии Генделя, Перголезе, Глюка, Пиччинни, Сальери, Паизиелло, Мартин-и-Солера, но мне никогда не приходилось исполнять арий, так глубоко выражающих чувства героинь, как ваши. Присущий вам лиризм делает «Фигаро» самой итальянской оперой-буффа из всех, какие есть на свете — она веселая и жизнерадостная, когда нужно, исполненная драматизма и страсти там, где требуется.
Вольфганг молчал. В голосе Энн слышалось волнение, ее смуглое лицо залилось румянцем. Сейчас возле него сидела не искушенная, много повидавшая в жизни женщина — в восемнадцать лет Энн выдали замуж за человека вдвое старше ее, но она быстро разошлась, не в силах терпеть жестокого обращения мужа, — а юная девушка, мечтательная и тоскующая по любви.
Энн недоумевала: почему Вольфганг колеблется? Никто ведь не узнает. А если и узнает, кому какое дело? Кроме разве его жены, но она ни разу не появлялась в театре, и, казалось, опера ее совсем не интересует. Энн смотрела на Моцарта, который сидел возле нее, боясь придвинуться поближе, и думала: сам он такой маленький, а музыка его по-настоящему величественна, полна красоты и выразительности. А как прекрасно он постиг все глубины женской души. Где, интересно, он изучал ее? Или это у него в крови? В самой природе его таланта? Человек, с таким пониманием и воодушевлением пишущий о любви, должно быть, чудесный любовник. В музыке Моцарта столько нежности и ласки, он не мог бы причинить ей боль, как ее бывший муж. И хотя арии его передают всю напряженность человеческих страстей, он никогда не теряет чувства меры, никогда не впадает в сентиментальность. Мелодии его чисты и в то же время чувственны, подчас полны мучений, но в них всегда сильно биение жизни, они так и брызжут радостью бытия. Сколько неизведанного и прекрасного сулит любовь такого человека, думала Энн. Она положила свою руку на его, во Вольфганг порывисто встал с дивана.
— Вы были со мной милы и внимательны, Энн, благодарю вас, — сказал он. — Прошу извинить, мне еще предстоит поработать — над оперой в целом и над арией Сусанны.
Констанца только сегодня сообщила ему, что снова ждет ребенка, и, как бы сильно ни тянуло его к Энн, разве мог он изменить жене в такое время?
Энн кивнула, не сказав в ответ ни слова.
Вольфганг торопливо шел домой. И зачем Энн Сторейс так очаровательна, думал он. Хорошо бы, она простила его и не стала из мести портить роль Сусанны. Нет, Энн слишком талантливая актриса и не способна пойти на такое, твердил он себе, а волнение, которое он испытывал в ее присутствии, не что иное, как восхищение перед ее блестящим вокальным мастерством.