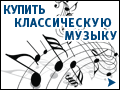По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Дэвид Вэйс. «Возвышенное и земное». Часть 8. «Констанца». 61
Вольфгангу не нравилось новое жилище — темная, грязная комнатушка, а Констанца всегда держала его комнату в образцовом порядке. В доме Веберов были и другие преимущества, которых ему здесь недоставало. Он забегал к ним при каждом удобном случае под предлогом забрать письма и старался не признаваться даже самому— себе, что скучает без Констанцы, без ее улыбки, веселого смеха. Но по мере того, как он все больше втягивался в работу над новой оперой, вносил последние поправки в сонаты для издателя Артариа, по мере того, как с наступлением осени и приездом в Вену знатных особ заказов все прибавлялось, свободного времени становилось все меньше и Вольфганг все реже навещал Веберов. Он был уверен, что пресек сплетни, потому что Папа больше не бранил его и писал главным образом о делах, касающихся музыки, — совсем как в былые времена, — давал советы по поводу либретто и партитуры, что так радовало Вольфганга, помогало и вдохновляло в работе.
Когда был закончен первый акт, Стефани собрал в Бургтеатре главных действующих лиц — проверить, соответствует ли музыка голосам певцов.
Вольфганг, работавший все последнее время в лихорадочном темпе, явился в театр бледный, усталый и подошел к певцам, сидевшим посреди пустой сцены. Он чувствовал себя опустошенным и подавленным. Работал он, как каторжный. А они теперь начнут разносить его творение в пух и прах. Он-то знал, как нужно петь его музыку, да вот знают ли они?
— Вольфганг не раз встречал всех этих певцов, по сейчас, когда его знакомили, делал вид, будто видит их впервые. Папа правильно советовал — лучше держаться со всеми на расстоянии.
Катарина Кавальери оказалась пышной зрелой женщиной, хотя была не старше его. Впрочем, из нее может получиться неплохая Констанца, решил Вольфганг. Бельмонт — Валентин Адамбергер, мужчина лет под сорок, Раафу бы его годы — вполне сойдет. Вольфганг поклонился Карлу Фишеру, басу, одному из самых популярных немецких певцов, который получил партию Осмина. Фишер был несколькими годами моложе тенора, но выглядел гораздо старше, суровое, волевое лицо — прекрасный контраст рядом с Бельмонтом.
Вольфганг так внимательно разглядывал главных действующих лиц, что не заметил сидевшую в темноте Алоизию.
— Как я уже вам говорил, госпожа Ланге дублирует госпожу Кавальери. Если репетиции оперы Глюка начнутся одновременно с нами, госпожа Кавальери может ему понадобиться, — сказал Стефани.
Глюку, конечно, отдадут предпочтение, с обидой подумал Вольфганг. Он встретился глазами с Алоизией. Она была все так же хороша, но в облике ее появилась какая-то жесткость. Вольфганг поклонился ей официальнее, чем другим, и спросил:
— Можно начинать, господин Стефани?
Адамбергер пел вступительную арию с большим чувством и вкусом — Вольфганг остался очень доволен. Кавальери исполнила первую арию несколько бравурно, и топ ее голоса оказался не так чист, как хотелось бы. Вольфганг видел: еще придется подгонять музыку к ее голосу. Но по-настоящему взволновал его голос Фишера. Фишер мог бы соперничать с самим Манцуоли. Вольфганг пришел в ужас — в теперешнем тексте либретто у Фишера была всего одна каватина — и решил это непременно исправить.
Наступила очередь Алоизии. Она запела нежно, зная, чем можно понравиться Вольфгангу, исполненная решимости произвести на него впечатление. И он не мог остаться равнодушным. Голос Алоизии не отличался силой, как у Кавальери, но пела она необычайно выразительно. Она помнила все, чему он ее учил, и очень усердно готовилась к выступлению. Но, несмотря на чувство, с каким она исполняла арию, жесткие нотки в ее голосе были чужды образу Констанцы.
Стефани, теперь уже в качестве импресарио, поблагодарил певцов и сказал:
— Вот такова в общих чертах опера «Похищение из сераля».
— Я думал, опера называется «Бельмонт и Констанца», — заметил Адамбергер.
— Я изменил название, — ответил Стефани. — «Die Entfuhrung aus dem Serail» звучит гораздо лучше. Сразу ясно, о чем речь.
Вольфганг хотел было возразить против такого наглого присвоения его идеи, но передумал — споры с либреттистом но гораздо более принципиальным вопросам еще впереди.
— Однако, — заявил Стефани, — я должен сообщить вам одну неприятную новость.
— Постановка оперы отменена! — воскликнул Вольфганг.
— О нет! Просто немного откладывается. Визит великого князя Павла в Вену перенесен на ноябрь, а соответственно и постановка оперы.
Вольфганг облегченно вздохнул. С одной стороны, это даже к лучшему, ибо многое предстояло изменить и доработать, в особенности в партии Фишера, и теперь есть время.
— Разучивайте хорошенько свои роли. Опера непременно увидит постановку. Клянусь вам честью. — С таким напутствием Стефани отпустил певцов.
Фишер задержался поговорить со Стефани, а Алоизия, дождавшись ухода Адамбергера и Кавальери, подошла к Вольфгангу и сказала:
— Вы хорошо выглядите.
— Что вам угодно? — Он чувствовал, что выглядит ужасно.
— Я просто рада с вами снова встретиться.
— Но вы теперь замужем. Она пожала плечами:
— Ну и что же. Многие женщины замужем. Вы не хотите поцеловать меня на прощание?
— Вам так нужна роль?
— О нет, просто в память о прошлом. Или, может, я стала совсем некрасива?
— Мы с вами недостаточно близко знакомы.
Он уже собрался уходить, когда в театр вошел Иозеф Ланге, высокий красивый актер. Увидев Моцарта, он нахмурился, а Вольфгангу стало смешно. Алоизия представила их друг другу, но Вольфганг тут же извинился — ему нужно кое-что обсудить с господином Стефани, сказал он. Чета Ланге удалилась, и Стефани насмешливо заметил:
— Почему бы вам не наставить ему рога, она, по-моему, не прочь.
Вольфганг промолчал.
— Хотите, возьмем ее на главную роль? Алоизия справится и отблагодарит вас.
— У Кавальери голос не хуже, а как актриса она лучше Алоизии. Кто меня волнует, Стефани, так это Фишер.
Стефани понимал, в чем дело. Фишер отказывался петь Осмина, если не получит хорошей арии, однако либреттист сделал вид, будто не понимает, что имеет в виду композитор.
— Осмину фактически нечего петь, а у Фишера прекрасный голос, и он мог бы сделать Осмина великолепным негодяем — комическим и в то же время грозным.
— Это потребует большой работы.
— Я уже сочинил для него красивую арию.
— Когда? Вы ни словом не обмолвились.
— Пока Фишер пел свою каватину. Ария у меня почти вся в голове. Но либретто нужно не только подправить, не только расширить роль Осмина. Некоторые ситуации нелепы, а иные стихи совершенно непригодны для пения.
— Моцарт, вы хотите невозможного.
— Значит, я не смогу продолжать. Не могу я писать музыку на сюжет, в который не верю.
Стефани так и подмывало принять его отказ — в Вене и без него много опытных композиторов, но музыка Моцарта была слишком прекрасна, против этих чудесных мелодий он просто не мог устоять. И ведь публика аплодирует музыке, а вовсе не либретто. Стефани сказал:
— То, что вы говорите о роли Осмина, не лишено здравого смысла. Не сомневаюсь, что и остальное мы сумеем уладить, если вы внесете изменения в музыку.
Конец дня они провели в работе. Вольфганг уже собрался уходить, когда Стефани сказал:
— Хочу предупредить вас, Моцарт. Нас не должны считать близкими друзьями. Пусть все выглядит так, будто я ставлю этот зингшпиль в угоду императору, который желает показать его великому князю Павлу. Иначе пойдут разговоры, что я остановил свой выбор на вас из дружеского расположения.
Музыканты предупреждали Вольфганга: Стефани доверять но следует, — но он не знал, кого слушать. В течение следующих недель либреттист внес кое-какие изменения, предложенные композитором, прочие же отверг как лишенные смысла. Репетиции с певцами шли прекрасно. Вольфганг был поглощен партитурой и работал с огромным подъемом. Он испытывал потребность обсудить ее только с одним человеком, чей музыкальный вкус ценил превыше всего. И написал Папе:
"Моя турецкая опера отложена до ноября, потому что Великая персона до той поры не прибудет. Но, возможно, это и к лучшему — предстоит еще внести массу изменений. Отсрочка даст нам время, и я смогу писать не в такой спешке.
Главные изменения касаются партии Осмина. Поскольку Фишер обладает великолепным басом — хотя архиепископ считал, что для баса он поет слишком низко, — то желательно использовать все возможности его голоса, в особенности еще и потому, что Фишера здесь очень любят. В первоначальном тексте либретто у Осмина была лишь одна каватина и ничего больше, если не считать терцета и финала. Теперь, однако, у него будет еще по арии в первом и во втором актах.
Я уже передал Стефани одну арию Фишера в совершенно законченном виде, и это явилось для него полной неожиданностью. Ария должна произвести огромный эффект, потому что я придал гневу Осмина комический оттенок, использовав турецкие мотивы. В этой арии Фишер сумеет показать свои прекрасные низкие ноты, а в быстрых пассажах сможет дать почувствовать аудитории нарастание своего гнева. А затем, как раз в тот момент, когда кажется, будто ария подходит к концу, неожиданное Allegro assai — в совсем ином темпе и иной тональности — производит поразительный эффект. Разгневанный человек переходит все границы дозволенного и полностью теряет самообладание, он весь кипит от гнева. И музыка должна точно так же потерять власть над собой.
Поскольку, однако, страсти, какими бы они ни были бурными, никогда нельзя передавать так, чтобы они вызывали у слушателя отвращение, и музыка даже в самых неприятных сценах не должна оскорблять слух, но всегда оставаться музыкой и доставлять наслаждение, то я выбрал для Allegro assai не ту тональность, в которой написана ария, а гармонирующую с ней — ля минор.
Ария Бельмонта в ля мажоре «О wie angstlich, о wie feu-rig («О, как робко») передает волнение его сердца двумя скрипками в октаву. В арию влюблены все, кто слышал ее, и написана она специально для голоса Адамбергера. Так и чувствуешь его трепет, одолевающие его сомнения, слышишь, как взволнованно вздымается грудь, — все это передает crescendo. Слышишь шепот и вздохи — это выражено засурдиненными первыми скрипками и флейтами в унисон.
Хор янычар — веселый и недлинный — должен прийтись по вкусу венской публике.
Все же мне пришлось внести кое-какие изменения в арию Констанцы, чтобы приспособить ее к глотке Кавальери. И я попытался выразить в арии чувства героини, насколько это позволяет стиль итальянской бравурной арии, которого я придерживался. Это обстоятельство, однако, заставило меня задаться вопросом, что же думают наши немецкие поэты: пусть они ничего не смыслят в театре и в опере, но как можно заставлять героев говорить таким дубовым языком, будто перед ними не люди, а стадо свиней?
Увертюра коротка, forte то и дело перемежается с piano; в forte все время вторгается «турецкая музыка», она модулируется в различных тональностях. Не думаю, чтобы, слушая увертюру, кто-нибудь мог заснуть, даже если не спал накануне всю ночь.
И тем не менее я начинаю волноваться; вот уже три недели, как опера почти готова, однако я не могу продвинуться ни на шаг, потому что дальнейшая ее судьба зависит от текста, а Стефани хотя и обещал внести требуемые мною изменения, по говорит, что очень занят сейчас другими делами, и потому работает над нашим либретто медленнее, чем мне хотелось бы. Я вполне согласен с Вашими критическими замечаниями по поводу либретто, но самый образ Осмина задуман неплохо. И для меня не секрет, что стихи могли бы быть лучше, но, к счастью, большинство стихов подходит к моим музыкальным замыслам, так что общее впечатление должно быть благоприятным. Думаю, теперь Стефани стало ясно — поэзия в опере всегда должна быть послушной слугой музыки.
Поэтому-то итальянские комические оперы и пользуются неизменным успехом, несмотря на их убогие либретто. Музыка в них превосходна, а все остальное имеет второстепенное значение. Как же должна выиграть опера при хорошо поставленном сюжете, где слова будут точно соответствовать музыке, а не служить на потребу убогой рифме — в опере это только помеха. Пусть либреттисты, пишущие рифмованными стихами, убираются ко всем чертям! Тем не менее я был бы счастлив объединиться с настоящим поэтом, таким, который понимал бы законы нашего музыкального театра. Я прекрасно знаю, какие слова больше подходят моей музыке. Но, поскольку мы живем не в идеальном мире, приходится довольствоваться тем, что есть.
Я счастлив, что Вы чувствуете себя лучше и что Вам понравилась та часть моей партитуры, которую я Вам послал. Ваш всегда любящий и покорный сын В. А. Моцарт«.
Издатель Артариа принял у Вольфганга шесть сонат, но попросил его сделать некоторые изменения в «местах, излишне оригинальных», как он выразился. Кому бы он хотел их посвятить, спросили его — таков уж обычай, от этого зависит судьба произведения, — но Вольфганг уклонился, решил отложить до декабря, когда сонаты будут опубликованы.
В то время как он работал над оперой и сонатами, появился еще один заказ — на серенаду. От него Вольфганг отказаться не мог — заказчица, госпожа Тереза, была невесткой придворного художника Иосифа Хикеля, а Хикель желал, чтобы серенаду исполнили для его друга фон Штрака, камергера двора Иосифа II.
Поскольку оба эти лица пользовались расположением императора, для Вольфганга появилась еще одна возможность привлечь к себе внимание его величества. Несмотря на нехватку времени, он сочинял серенаду с большой тщательностью. Он написал ее в ми-бемоль мажоре и оркестровал для двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов. Музыка такого рода, легкая, веселая, считалась развлекательной и предназначалась для исполнения и в домах, и на открытом воздухе — в парке во время гулянья, и в салонах, поэтому он сочинил для всех инструментов живые, изящные мелодии и заставил их вести между собой оживленный разговор. И поскольку исполнять серенаду предстояло его друзьям, Вольфганг писал так, что играть ее доставляло не меньшее удовольствие, чем слушать.
Серенада была исполнена в день именин госпожи Терезы в присутствии именинницы, фон Штрака и Иосифа Хикеля, а две недели спустя — в день именин самого Вольфганга, когда он поздно вечером заканчивал арию для Фишера, — музыканты, уже исполнявшие раньше эту серенаду, сыграли ее во дворе под его окнами. Хотя Вольфганг писал серенаду для другой цели, такому проявлению дружбы противостоять он не мог. Тронутый до глубины души, он пригласил всех музыкантов в таверну на Кольмаркт. Угощение стоило ему больше денег, чем он получил за серенаду.
Музыканты давно разошлись, а Вольфганг лежал в постели, наблюдая, как за окнами начинает светать, в ушах у него все звучала музыка, переполняя его душу счастьем. Неужели судьба не улыбнется ему в Вене? Теперь это казалось невероятным.
Однако после исполнения серенады, написанной для Иосифа Хикеля и фон Штрака, приглашения от императора так и не последовало, и Вольфганг немало огорчился.
Он не получил ни единого крейцера за «Похищение из сераля» и за сонаты и остался почти без гроша в кармане, когда князь Кобенцл предложил:
— У меня есть для вас еще одна ученица — Иозефа Ауэрнхаммер, дочь экономического советника при дворе. Ее отец оказал стране неоценимые услуги, и я буду весьма признателен, если вы возьметесь ее обучать. Под вашим руководством она сможет стать настоящей концертанткой. Платить Иозефа будет столько же, сколько моя кузина.
— Благодарю вас. — Это было очень кстати, неизвестно только, где брать время на сон, думал Вольфганг, при том, что столько дел навалилось сразу.
Иозефа хотела заниматься четыре раза в неделю, а отец, обожавший ее, готов был платить столько, сколько попросит Моцарт. Иозефа — девица очень толстая — играла на фортепьяно с таким усердием, что пот лил с нее градом: Вольфганг с трудом терпел ее, а она так и льнула к нему; платья Иозефа носила слишком открытые, и телеса выпирали буквально отовсюду. Но она платила больше всех и стала его основной материальной опорой. Отец, любящий ее до безумия, мечтал, чтобы дочь выступала перед публикой, обещал пригласить на концерт всю венскую знать и щедро заплатить Вольфгангу за уроки. Вольфганг взялся подготовить Иозефу к концерту, и это значительно увеличило его заработки, но ежедневные занятия с Иозефой все больше раздражали его. Контраст между толстой, потливой Иозефой и тоненькой очаровательной Констанцей становился все разительней. Чем больше отвращения вызывала в нем первая, тем сильнее тянуло ко второй.
Репетиции «Похищения из сераля» шли полным ходом: спектакль в честь великого князя Павла намечался не позже чем через месяц, а партитура была еще далека от завершения. Вольфганга не удовлетворял текст либретто, некоторые изменения, внесенные Стефани, ухудшили первоначальный вариант, по роль Осмина стала лучше, и главные герои пели великолепно. И вот за две недели до 25 декабря, дня премьеры, Стефани попросил Вольфганга подождать, пока все разойдутся.
Вольфганг был в отличном расположении духа. Репетиция прошла прекрасно, музыка звучала, наконец, так, как он ее задумал, но почему мрачен Стефани? Может, сердится на него за все поправки, которые пришлось сделать?
Стефани сразу приступил к делу:
— Двор решил, что «Похищение» недостаточно пристойно для ушей великого князя. Оно будет заменено глюковской «Альцестой», постановка ее на итальянском языке состоится в театре Шёнбруннского дворца.
— На итальянском? После стольких трудов, которые мы вложили в создание немецкой оперы?
— Великий князь Павел говорит, что немецкий язык фактически непригоден для пения.
— Но я сделал его пригодным. А как же все разговоры императора о создании немецкой национальной оперы?
— Иосиф не хочет обижать русского гостя. Он наш возможный союзник. Но опера о похищении будет поставлена. Со временем!
— А как быть с певцами? Ведь это же для них страшный удар?
— Некоторые получат роли в «Альцесте». Другие... — Стефани пожал плечами.
— В чем же истинная причина?
— Я ведь сказал вам, Моцарт,
— Вы сказали мне то, что должны были сказать. Но все же почему Глюк вместо Моцарта?
Стефани замялся, сомневаясь, можно ли открыть правду, однако, желая сохранить дружеские отношения с композитором и по-прежнему исполненный решимости добиться постановки оперы — что, без сомнения, должно было способствовать его собственной карьере, — добавил:
— Император сказал: «Я знаю, на что способен Глюк, но мне не известно, на что способен Моцарт».