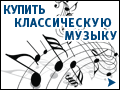По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Д. Вэйс. «Возвышенное и земное». Часть 6. В поисках счастья. 49
Леопольд сидел в Танцмейстерзале их дома на Ганнибальплац и писал письмо Анне Марии и Вольфгангу — этот красивый парадный концертный зал сохранил у него самые нежные воспоминания о них, — когда принесли письмо сына о тяжелой болезни жены. Леопольд как раз успел написать: «Любимейшая моя жена, чтобы не опоздать поздравить тебя с именинами, пишу сейчас, дабы знать, что ты получишь мое поздравление еще до наступления сего торжественного дня; желаю тебе всяческого счастья и возношу молитвы всевышнему, чтобы он сохранил тебя на многие лета не только в добром здравии, но и в радости, какая только возможна в этом изменчивом и нелегком мире. Верю, что с его помощью мы снова будем вместе; ты ведь знаешь, мне труднее всего переносить разлуку с тобой, меня мучает сознание, что ты так далеко от меня, что мы должны жить порознь друг от друга! В остальном у нас, слава богу, все в порядке. Мы целуем тебя и Вольфганга тысячу раз и очень просим беречь свое драгоценное здоровье...»
Леопольд взялся читать письмо сына, но не в силах был продолжать. От письма Вольфганга веяло смирением, совсем ему не свойственным, и Леопольд внезапно похолодел от страха — уж жива ли Анна Мария?... Нет, господь бог не так жесток, убеждал он себя, иначе самый благочестивый человек может впасть в безбожие. Он позвал Наннерль, желая послушать ее мнение, но Наннерль, прочтя письмо брата, разрыдалась.
— Что нам остается думать, — сказал Леопольд, — либо ее уже нет в живых, либо ей стало лучше, поскольку письмо помечено третьим июля, а сегодня уже тринадцатое.
— Вольфганг позвал священника! Мы ее уже, наверно, потеряли! — воскликнула Наннерль.
— Да, слишком уж он старается нас утешить. Вольфганг никогда не стал бы писать в таком торжественном стиле, не потеряй он всякую надежду, или это уже свершилось и он не мог писать по-другому.
Леопольд и Наннерль сидели, примолкшие и грустные, ошеломленные печальным известием, когда вошел Буллингер. Леопольд молча подал ему письмо от Вольфганга. Тучный седовласый священник внимательно прочел письмо, и на лице его отразилась печаль.
— Что вы думаете, Леопольд? — спросил он.
— Я думаю, Анна Мария умерла.
— Боюсь, что это так, — печально произнес Буллингер. — Вольфганг не стал бы писать столь тревожное письмо без всякой на то причины.
И когда священник, стараясь утешить Леопольда, проговорил: — Мужайтесь, надо быть готовым ко всему, — Леопольд понял, что под этим подразумевалось, и с отчаянием в голосе сказал:
— Я не только уверен, что она умерла, я знаю, ее не было в живых уже в тот момент, когда писалось письмо. Разве не так, Буллингер? — Голос его был тверд, но сердце разрывалось от горя.
Лицо священника утратило свой обычный румянец, и наступившая тишина казалась зловещей, как сама смерть. И тогда то, что было для Леопольда лишь догадкой, превратилось в уверенность.
Буллингер обнял Леопольда и Наннерль, и втроем они залились слезами.
На следующий день Леопольд закончил письмо к Анне Марии, обращаясь уже только к Вольфгангу. Он оставил поздравления по случаю именин, словно хотел этим удержать ее в живых, но написал сыну, что знает о его письме к Буллингеру, и просил Вольфганга изложить во всех подробностях Мамину болезнь и смерть. Леопольд старался не поддаваться чувству жалости к себе, однако не мог не написать сыну, какую тяжелейшую утрату они понесли. Разве мог он позволить себе распускаться, тем более перед сыном, наставником которого он был всю жизнь? Не мог Леопольд допустить и того, чтобы жертва, принесенная Анной Марией, оказалась напрасной, — иначе как можно примириться с ее смертью?
«Не волнуйся за меня, я постараюсь пережить свое горе, — писал он, — как подобает мужчине. Помни всегда, какая у тебя была прекрасная мать. Теперь ты сможешь особенно оценить ее любовь и заботу». В конце письма Леопольд посоветовал сыну приложить все усилия к тому, чтобы раздобыть заказ на оперу. Это гораздо разумнее, чем целиком зависеть от Легро, Новерра или даже герцога де Гиня, хотя интересно было бы узнать, что с ними, — ведь Вольфганг ни словом не упомянул о них в своем письме.
Леопольд написал также Гримму, поблагодарил барона за доброе отношение к Анне Марии и Вольфгангу и спросил, имеются ли в Париже для его сына хоть какие-нибудь перспективы.
Однако Леопольду не давала покоя одна мысль — так ли неизбежна была смерть Анны Марии? Он представлял себе, как она лежит там одна, среди чужестранцев, и это невыносимо мучило его. Потом вдруг ему пришло в голову, что нужно немедленно вернуть сына назад из Парижа, пока этот город не погубил и его, вернуть даже в том случае, если, как он надеялся, Гримм сообщит радостную весть, что дела Вольфганга налаживаются.
В течение следующей недели многие друзья Моцартов нанесли им визиты и выразили свое соболезнование. Леопольда весьма тронули эти знаки внимания, и тем не менее визит графини Лютцов, заподозрил он, был продиктован еще и другими соображениями.
Хотя Леопольд считал музыкальный вкус графини несколько странным и изменчивым, но она была одной из самых влиятельных особ в Зальцбурге: приходясь племянницей Колоредо, графиня располагала большим влиянием при дворе. Леопольд принял ее в Танцмейстерзале.
Графиня хорошо помнила этот концертный зал — не раз бывала она здесь на уроках музыки. Но сегодня, принимая ее в Танцмейстерзале, Леопольд как бы подчеркивал значимость ее визита, и она понимала это.
Поговорив о том, какой чудесной, жизнерадостной женщиной была Анна Мария и какой ужасной утратой явилась ее смерть, графиня спросила:
— Что же теперь собирается делать Вольфганг?
— Что вы имеете в виду, ваше сиятельство? В Париже Вольфганг пользуется огромным успехом.
— Но до меня дошли слухи...
— Что его новая симфония получила бурное одобрение на концерте, который почтил своим присутствием Людовик XVI, на концерте духовной музыки, — раздраженно и решительно перебил ее Леопольд. — И что фаворит Марии Антуанетты Новерр заказал Вольфгангу музыку к своему балету-пантомиме, а герцог де Гинь, наперсник и советник короля и королевы, уверовал в гений Вольфганга и стал его покровителем и учеником.
— Но вы ведь всегда были такой дружной семьей. Жить вдали от родных — это не для Вольфганга.
— То же самое говорила и моя дорогая жена. А теперь он там совсем один. — Как ни старался Леопольд держать себя в руках, на глаза у него навернулись слезы.
— Музыка здесь в плачевном состоянии. Фишетти нас покинул, а Лолли умирает. Придворная капелла очень нуждается в пополнении.
— Знаю. В последнее время я работал за троих.
— Его светлость это ценит. И потому считает, что вам нужна подмога.
Леопольд сомневался, действительно ли это беспокоит Колоредо, но сказал:
— А как насчет Михаэля Гайдна? Он очень способный музыкант, когда...
— Когда не пьет. А пьет он почти все время. Поэтому он и впал в немилость у его светлости. А теперь, когда у любовницы Брунетти появился незаконнорожденный ребенок и все об этом узнали, назначение его капельмейстером может привести к скандалу.
Ловкий маневр заставить его заговорить о сыне, подумал Леопольд и умолк.
— Кроме того, после смерти Адельгассера мы испытываем большую нужду в органисте.
— Значит, его светлость хочет иметь органиста, который умел бы к тому же хорошо играть на клавесине и сочинять музыку. Разве такого найдешь?
— Итак, вы сами видите, господин Моцарт, мы оказались в очень затруднительном положении.
Еще бы, торжествовал про себя Леопольд, но вслух сказал:
— Я не имею чести знать никого, кто отвечал бы требованиям его светлости.
Графине вдруг стало не под силу предложить то, ради чего она сюда явилась.
— Более того, я никогда не посмел бы рекомендовать кого-то его светлости, ибо чрезвычайно трудно найти музыканта, который подошел бы ему во всех отношениях.
— Браво! Какая жалость, что вы не на посту министра!
— Вы не хотите услышать мое искреннее мнение? — Леопольд снова замкнулся.
— Напротив, господин Моцарт. Именно поэтому я и пришла к вам.
— Ваше сиятельство, вы изволите мне льстить.
— Ни в коем случае. Вы разбираетесь в вопросах музыки, как никто другой в Зальцбурге. Вы побывали в Лондоне, в Париже, почти во всех музыкальных центрах Европы. Вам лучше знать, кто подойдет на это место, и кто нет.
— Кого бы порекомендовали вы, графиня?
— Вольфганг вызывал всеобщее восхищение повсюду, где бы ни выступал.
— За исключением Зальцбурга!
— Включая Зальцбург!
— Поэтому моего сына и уволили?
— Он сам попросил об увольнении, господин Моцарт.
— Его светлость дал нам понять нечто совсем иное.
— Его светлость был занят тогда другими делами: Баварией, Австрией, Пруссией, возможным вражеским нашествием. Его очень опечалила весть о кончине вашей супруги. И он шлет вам свое соболезнование.
— Его светлость все еще гневается на Вольфганга?
— Он, собственно, никогда на него не гневался. Был немного раздражен, и только.
— И однако, его светлость по-прежнему предпочитает иностранцев хорошим, одаренным немецким музыкантам.
— Теперь-то нет. Господин Моцарт, не могли бы вы написать сыну?
— О чем, ваше сиятельство?
— Ну, для начала о месте соборного органиста.
— Не могу! Сын мой посмеется над таким предложением. Да одно только жалованье никак не устроит его.
— Сколько же он потребует?
— Он ожидает заработать в этом году в Париже по крайней мере тысячу гульденов.
— Адельгассер получал всего триста гульденов.
— Но вам нужен не только органист. Вам нужен клавесинист, дирижер, композитор, и лучшего, чем он, вам не найти.
— Без сомнения. Но тысяча гульденов — огромная сумма.
— Потому, я полагаю, обсуждать это дальше бесполезно. Я ценю вашу заинтересованность, графиня, и знаю, что ваша главная забота, так же как и моя, — поднять музыку в Зальцбурге на более высокий уровень. Но мне следует заботиться и о будущем сына, ему нужны и другие гарантии. Например, предоставление регулярных отпусков, чтобы писать оперы. А пока мы только попусту тратим время, обсуждая этот вопрос.
— Обо всем придется подумать, но, возможно, нам удастся в конце концов прийти к обоюдному согласию.
Леопольд чувствовал себя настоящим Макиавелли — до чего ловко он заставил графиню выболтать тайные желания Колоредо — и гордился тем, как ему удалось повернуть дело. Но когда он сел писать Вольфгангу с Намерением поведать о предложении архиепископа, ибо, что бы там графиня ни говорила, а это было предложением, — он сознавал, что сын не поддастся на уговоры так легко, как он. Поэтому Леопольд особо подчеркнул:
«Я пишу, дорогой Вольфганг, вовсе не затем, чтобы уговорить тебя вернуться в Зальцбург, у меня нет ни малейшей уверенности, что архиепископ сдержит свое слово. Но если что-нибудь из этого и получится после всех моих стараний, они предложат тебе самые выгодные условия. И в случае, если тебя постигнет неудача в Париже, а к этому всегда надо быть готовым, отношение к тебе станет здесь гораздо лучше, чем прежде».
Заботы о делах сына отвлекали Леопольда от тяжелых мыслей и приглушали тоску по Анне Марии, что она, без сомнения, одобрила бы, пытался он убедить себя.
План действий показался Леопольду еще более разумным спустя несколько дней, когда от Вольфганга пришло горькое письмо с описанием трудностей его пребывания в Париже.
"Любимый Папа, печальная весть о кончине Мамы уже получена Вами, и я больше не буду останавливаться на трагических подробностях постигшего нас горя.
Мне предложили место органиста в Версале, с жалованьем 2000 ливров в год, но придется жить полгода при дворе и полгода в Париже. Кроме того, деньги эти, которые равняются 915 гульденам и в Германии представляли бы значительную сумму, в Париже — ничто; деньги тут прямо тают, а поэтому принять такое предложение было бы по меньшей мере неразумно. Да тут еще все в один голос твердят: пойти на службу к королю — значит быть забытым в Париже... А оставаться только органистом — ни за что!
Вы советуете мне, например, почаще делать визиты, заводить новые знакомства и возобновлять старые связи, но это невозможно. Расстояния здесь слишком большие, а улицы слишком грязные, чтобы ходить пешком; грязь под ногами такая, что трудно описать, нанять же экипаж или хотя бы портшез стоит четыре или пять ливров, а в Версале и того дороже. И все это — пустая трата времени, ибо тебе просто говорят комплименты и этим дело ограничивается. Просят прийти тогда-то — я прихожу, играю, а они восклицают: "Oh! C’est prodige, c’est inconcevable, с’est etonnantl Et adieu!" (О, это изумительно! Это трудно себе вообразить! Удивительно! И – прощайте (франц.)).
Но, даже согласись я все это терпеть, трудностей не стало бы меньше. Будь я хоть в таком месте, где у людей есть уши, чтобы слушать, сердце, чтобы чувствовать, и хоть какое-то понимание и вкус, я бы на все остальное не обращал внимания, но если говорить о музыке, то, к сожалению, приходится признать, что я живу среди настоящих ослов. Легро задолжал мне деньги, Новерр никогда не платит ни су за музыку, которую я пишу для его танцев, меняет ее так, что она становится похожа на ничтожные французские мелодийки, а герцог де Гинь, увольняя меня, вел себя просто оскорбительно.
Что же касается заказа на оперу — это и моя заветная мечта, но на настоящую оперу, а не на оперу-буффа. И можете положиться на меня, получив такой заказ, я приложу все усилия, чтобы прославить имя Моцартов, и не сомневаюсь в успехе. Но ни один здешний импресарио не обращает ни на кого внимания, кроме Глюка и Пиччинни. В Париже важнее всего задавать обеды всяким влиятельным особам, а я не горю желанием это делать, да и карман не позволяет. Кроме того, старые либретто, которые мне предлагали, не отвечают современному вкусу, а новые ни на что не годны, но хуже всего — парижский вкус, который с каждым днем портится все больше.
Последнее время меня одолевает такая грусть и тоска, что жить подчас просто не хочется. Я терплю Париж только из любви к Вам, но возблагодарю бога, когда мне удастся покинуть этот город, не испортив свой здоровый врожденный вкус.
Барон Гримм, которого я считал своим добрым другом и который после кончины дорогой матушки предложил мне поселиться у себя в доме — впрочем, это была идея госпожи д’Эпинэ, — резко изменил ко мне отношение. Барон отговаривает меня принять назначение в Версаль, и, с тех пор как он одолжил мне луидор на оплату счетов за Мамину болезнь и похороны, это стал совсем другой человек.
Он непрестанно поучает меня, как поступать в том или ином случае. И дает понять, что правильно я веду себя только тогда, когда слушаюсь его совета. Если бы не доброта и внимание госпожи д’Эпинэ, я бы здесь не задержался ни на минуту«.
Леопольд раздумывал над горестями, выпавшими на долю Вольфганга, когда пришло письмо от барона Гримма. Барон еще более пессимистично смотрел на перспективы Вольфганга.
«Дорогой господин Моцарт! Вы спрашиваете меня, какие возможности открываются перед Вольфгангом в Париже. Я колебался, не зная, что ответить, но, поскольку Вы настаиваете, вот Вам факты.
Сын Ваш слишком доверчив, слишком добр, слишком благороден и не имеет понятия о том, каким путем добиваются успеха. Здесь, чтобы чего-то достичь, нужно быть хитрым, предприимчивым, наглым. Обладай он вдвое меньшим талантом и вдвое большей практической сметкой, я был бы за него спокоен.
Чтобы заработать на жизнь в Париже, для него есть только два пути. Первый — давать уроки игры на клавесине, но, чтобы достать учеников, нужно действовать энергично и быть до известной степени шарлатаном; кроме того, я не уверен, хватит ли у Вольфганга терпения бегать по всему Парижу и вдалбливать правила нерадивым ученикам. Да и потом, уроки его вовсе не прельщают, ибо отнимают время, которое он хотел бы посвятить композиции — занятие, самое его любимое. Ваш сын хочет целиком посвятить себя композиции. Но беда в том, что в этой стране широкая публика ничего не смыслит в музыке. Все зависит от имени композитора, а имя Моцарта здесь слишком мало известно. В настоящее время симпатии публики до смешного поделены между Глюком и Пиччинни — никто другой их не интересует. Вашему сыну почти невозможно преуспеть в Париже как композитору, поскольку здесь увлечены сейчас другими именами. Поймите, mon cher, в стране, где столько посредственных и даже из рук вон плохих музыкантов умудрились сколотить огромные состояния, сын Ваш, опасаюсь, едва ли сможет прокормиться.
Я со всей откровенностью рассказал Вам правду вовсе не для того, чтобы Вас расстроить, а с тем, чтобы вместе мы могли прийти к правильному решению. Лично у меня нот сомнений — его возможности в Париже равны нулю».