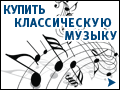По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Д. Вэйс. «Возвышенное и земное». Часть 6. В поисках счастья. 48
Мама по-прежнему отказывалась от лекаря.
— Теперь уж вы не сможете ссылаться на то, будто лекарь нам не по средствам, — сказал Вольфганг, но Мама ответила: — Я не доверяю французским лекарям, — хотя с каждым днем она чувствовала себя, несмотря на установившуюся в июне теплую погоду, все хуже. Она верила в лекарства Леопольда — до сих пор эти средства помогали им от всех болезней и на этот раз поставят ее на ноги. В последующие дни состояние ее не улучшилось, и она, наконец, согласилась на кровопускание. После этого ей полегчало. Мама смогла подняться с постели, и Рааф, регулярно их навещавший, даже повел ее гулять в Люксембургский сад. Прогулка доставила Анне Марии большое удовольствие, но очень утомила. У Вольфганга появилась надежда, что Мама сможет присутствовать на первом исполнении симфонии, написанной им для Легро.
Каково же было его разочарование, когда в день концерта Анна Мария вдруг сказала:
— Я недостаточно хорошо себя чувствую, чтобы пойти на концерт, хотя кровопускание сильно помогло. Смотри не пиши Папе о моем недомогании, не огорчай его понапрасну.
— Не напишу при одном условии: если вы позволите вызвать лекаря, как только вам снова станет хуже.
Мама заколебалась, но, взглянув на взволнованное и решительное лицо сына, кивнула в знак согласия.
— Папа успокоится, узнав, что вам пустили кровь. Он в это верит.
— А ты разве нет, Вольфганг? Он пожал плечами.
— Если помогает, то верю. Папу позабавит мое сообщение о смерти Вольтера. Послушайте, что я написал.
Вольфганг прочел:
«Безбожный мошенник Вольтер подох 30 мая, как паршивая собака».
— Почему ты так его не любишь? Ведь с другими вероотступниками ты в дружеских отношениях. С Шахтнером, например, Вендлингом, Гриммом. И они тебе немало добра сделали.
— Его обожает Колоредо.
— Но, говорят, Вольтер умер, примирившись с церковью. Вольфганг, если что-нибудь случится со мной, прошу тебя соблюсти все, что положено по обряду.
— С вами ничего не должно случиться, Мама.
Пришел Рааф. Он согласился с Вольфгангом, что вид у госпожи Моцарт после кровопускания стал намного лучше, и добавил:
— Как только симфония вашего сына получит всеобщее признание, вы забудете обо всех своих недугах.
— На это я не возлагаю больших надежд, — сказал Вольфганг. — Французов обескураживает моя музыка. Они не знают, как ее воспринимать.
Мама с гордостью сказала:
— Твоя новая симфония ре мажор написана с большим мастерством, а ведь ты уже сколько лет не сочинял симфоний.
— Я убежден, она произведет благоприятное впечатление, — заметил Рааф.
— Это не так уж важно, — с усмешкой сказал Вольфганг. — И что они подумают, тоже не важно. Мне все равно, понравится симфония или нет. Но начал я ее все же в парижском стиле, с их излюбленного premier coup d’ar-chet (Первый удар смычковых (франц.), энергично и в унисон, будто это такое уж достижение. Ну и потеха!
Однако, сидя в Швейцарском зале дворца Тюильри и ожидая начала исполнения своей симфонии — первой, написанной им за четыре года, — Вольфганг, несмотря на все презрение к французской музыке, волновался. Не слишком ли надолго забросил он эту музыкальную форму? А может, зря он использовал в своей новой симфонии парижский стиль? Раздались аккорды первой части, и Вольфганг подумал, что оркестр оставляет желать лучшего. Но вступление задумано им правильно: французы привыкли к мощным, стремительным началам.
Никто из оркестрантов не заметил, казалось, что первая скрипка сбилась с такта, и Вольфганг вскочил и хотел было кинуться в оркестр исправить ошибку, но Рааф удержал его, прошептав:
— Боже упаси, Моцарт, такая выходка может стоить вам жизни, неужели вы не понимаете, что рискуете провалить симфонию?
Тем временем первая скрипка нагнала инструменты, которые ей полагалось вести за собой, и Вольфганг понемногу успокоился.
Пассаж в середине второй части вызвал бурю аплодисментов, но Вольфганг не удивился — он и писал его с расчетом на публику.
Медленная и серьезная вторая часть так и светилась поэтичностью и изяществом, а слушатели восприняли ее без всякого энтузиазма.
Однако, как только раздалось forte динамичной третьей части, слушатели стали восторженно аплодировать и кричать: «Брависсимо!» — и так продолжалось до самого конца.
Легро с королевским вензелем на камзоле подошел к Вольфгангу и сказал:
— Это самая чудесная из всех написанных для меня симфоний, — однако остаток обещанных денег Вольфгангу не отдал, а вместо этого представил его Пиччинни.
Гримм и госпожа д’Эпинэ тоже поздравили его, и Пиччинни сказал:
— Мы встречались прежде, синьор Моцарт, в Италии, вы были тогда ребенком.
Вольфганг чувствовал себя подавленным. Первым номером программы шла увертюра к онере Пиччинни — все тот же затасканный, развлекательный мотивчик, с отвращением подумал Вольфганг, и, несмотря на это, Пиччинни — любимец Парижа. Что обходится Парижу дороже — музыка Пиччинни или расточительство Марии Антуанетты? Но Гримм не спускал с него глаз, поэтому Вольфганг поклонился Пиччинни и вежливо заметил:
— Я счастлив вновь встретиться с вами, маэстро.
— Ваша симфония интересна. Намерены ли вы писать здесь оперу?
— Мне предложили. Вы считаете, такое предложение стоит принять?
— Разве угадаешь, синьор! — Пиччинни вскинул руки, изображая отчаяние. — Я ехал в Париж не затем, чтобы соперничать с кем бы то ни было, и меньше всего — с кавалером Глюком, музыкой которого восхищаюсь, но теперь нас считают злейшими врагами. Хотя музыка моя так же далека от его, как и от вашей.
— Главное, чтобы музыка пользовалась успехом у публики, остальное не имеет значения, — сказал Вольфганг.
Пиччинни вспыхнул, восприняв это как оскорбление. По лицу Гримма Вольфганг увидел, что его покоробило подобное замечание, и поспешно добавил:
— Синьор Пиччинни, я убежден, ваши оперы вполне заслуживают всех расточаемых им похвал.
Гримм благожелательно улыбнулся, а Пиччинни произнес:
— Вы очень великодушны, синьор.
— Нисколько, маэстро. Вы знаете свое дело так же, как я свое.
Когда Вольфганг собрался было покинуть их, госпожа д’Эпинэ спросила:
— Как поживает госпожа Моцарт? Мы слышали, она сильно болела. Если понадобится наша помощь, мы к вашим услугам.
— Благодарю вас, сегодня ей лучше. — Вольфганг откланялся и ушел.
Но, вернувшись домой, он увидел, что Маме стало хуже. На этот раз Вольфганг по-настоящему встревожился. Он рассказал, с каким восторгом была встречена симфония, но Анна Мария слушала его без внимания. Неужели Маме не интересно? Он напел несколько тактов симфонии, а она показала на свой живот и прошептала:
— У меня сильные боли, Вольфганг.
Он побежал к аптекарю и купил любимое лекарство Папы — порошок против спазм, который они всегда употребляли дома при желудочных болях, но Маме совсем стало невмоготу. Началось сильное расстройство. Вольфганга напугал ее измученный вид. Указав на лекарство, принесенное из аптеки, Мама прошептала:
— Жидкость в этой бутылке меня уже не спасет.
— Можно, я позову лекаря? — Но Мама не слышала. Чтобы она услышала, ему пришлось кричать.
Наконец Мама кивнула, готовая на все, лишь бы облегчить мучительную боль; собрав последние силы, Анна Мария прошептала:
— Только, пожалуйста, Вольфганг, если можно, позови немца, — и тут же впала в беспамятство и начала бредить.
Зашедший попрощаться Рааф — он уезжал на следующий день в Мангейм — ужаснулся, увидев Анну Марию в таком состоянии, и вызвался посидеть с ней, пока Вольфганг не приведет лекаря.
Госпожа д’Эпинэ, узнав, что состояние госпожи Моцарт ухудшилось, послала Вольфганга к личному лекарю Гримма, пожилому немцу, который приехал в Париж вместе с бароном и осел там. Рудольф фон Коллер был профессором анатомии и специалистом по вскрытию трупов.
К тому времени как Вольфганг вернулся домой вместе с доктором фон Коллером, Маме стало легче. Рааф напевал ей мелодию из новой симфонии Вольфганга; она была в сознании, по-видимому, пение Раафа доставляло ей удовольствие и отвлекало от грустных мыслей. Узнав, что доктор — немец, Анна Мария вздохнула с облегчением: по крайней мере, можно понять, что он говорит, и с доверием отнестись к лекарствам, которые пропишет. Фон Коллеру было лет семьдесят, но, несмотря на возраст, он оказался очень энергичным. Он прослушал легкие госпожи Моцарт — дыхание затрудненное, пощупал пульс — учащенный, нажал на живот — кишечник был напряжен. А когда она сказала, что у нее сильные боли и такое чувство, будто внутри все воспалено, доктор фон Коллер заключил:
— Все дело в этой проклятой французской пище и воде. И прописал порошки из ревеня с вином, «но при этом ни капли воды, ни в коем случае», тем не менее, жажда мучила ее, особенно после порошка, запитого вином.
Вольфганг отвел фон Коллера в сторону и спросил:
— Что с ней, доктор?
— Скорее всего, обыкновенное расстройство желудка, Не думаю, чтобы это было что-то более серьезное.
Иными словами, решил Вольфганг, хотя, состояние и тяжелое, но не грозит такими ужасными последствиями, как заразная болезнь.
— Значит, — ничего страшного?
— О нет! Это не чахотка, в легких нет хрипов. Не оспа и не скарлатина. И даже не простуда.
— Но она все время жалуется на озноб.
— Я уже сказал, что это легкое недомогание. — Полный, краснолицый доктор поправил свой тщательно напудренный парик и заключил: — Если в течение нескольких дней боли не прекратятся, позовите меня снова. Но помните — ни капли воды.
Немного погодя распрощался и Рааф; он поцеловал Маму в лоб и заверил, что непременно навестит ее, вернувшись осенью в Париж. Вольфганг проводил его до дверей, и Рааф спросил:
— Передать что-нибудь Алоизии?
— Разве только что мне ужасно хотелось бы ее видеть? — Вольфганг горько усмехнулся. — А впрочем, какой толк? Я писал и ей и Фридолину, давал им советы. Даже предлагал приехать в Париж, но они, по-видимому, не слишком сюда рвутся.
— Неужели вы осуждаете их за это? После того как вас самого здесь так встретили?
— Алоизия непременно добьется успеха. Она красива и поет отлично.
— Да, она могла бы добиться успеха, но сделавшись чьей-нибудь любовницей.
— Прошу вас! — Вольфгангу подобная мысль была невыносима.
— Вы меня удивляете, Вольфганг. Неужели вы не знаете, каким образом молодые привлекательные женщины недворянского сословия добиваются успеха!
— Но ведь я люблю ее!
— Потому-то я и хочу уберечь вас от огорчений.
— Что может огорчить меня сильнее, чем Париж и полное отсутствие вкуса у здешней публики?
— Да, действительно! Но в вашем возрасте нет ничего страшнее равнодушия. Вы хотите передать что-нибудь Алоизии?
— Занимайтесь с ней. Прошу вас, господин Рааф. Это принесет ей величайшую пользу.
— Но не бесплатно. Я ничего не делаю даром. Это неплохо бы усвоить и вам. Уважения к вам только прибавится.
— Я буду платить. Присылать деньги за уроки.
— С больной-то матерью на руках? По силам ли вам это?
— Не в ущерб ей, конечно. А лишь только Мама поправится...
— Я был бы очень рад. Выглядит она лучше, и доктор, безусловно, поможет. — Рааф вручил Вольфгангу несколько луидоров и добавил: — Я скажу Алоизии, что ваши дела идут прекрасно. Честолюбивым молодым женщинам такое всегда приятно слышать. И постараюсь помочь, чем смогу.
Не успел Вольфганг до конца оценить доброту Раафа, как Мама снова начала бредить и просить пить, но Вольфганг боялся дать ей воды. Доктор строго-настрого запретил.
Потом Анна Мария впала в забытье — затихла и лежала, как мертвая. Вольфганг позвал доктора; на этот раз фон Коллер посмотрел на больную так, словно перед ним был труп, и отрывисто сказал:
— Сомневаюсь, протянет ли она до утра. Не мешало бы позаботиться о священнике.
Вольфганг отыскал немецкого священника; Анна Мария очнулась, когда он пришел; она нашла в себе силы исповедаться в грехах, принять причастие и миропомазание. Казалось, это принесло ей некоторое облегчение, и, после того как священник ушел, Анна Мария сказала:
— Ну, теперь я скоро встану. Сколько взял доктор?
— Какое это имеет значение, дорогая Мама. Теперь вы меня слышите?
— Конечно, слышу. Я же слышала, что говорил священник. Ты виделся с доктором Франклином?
— Нет. Гримм не советовал.
— Барон как-то изменился. Хотя мне не кажется, что у этого американца что-нибудь выйдет с его затеей получить с неба молнию. Говорят, в Мангейме после его опыта начались грозы. Вольфганг, зачем идти против природы? Ты ведь знаешь, если господь захочет обрушить на кого-нибудь свою кару, он это сделает и никакой громоотвод тут не поможет. Не оставляй меня одну, Вольфганг.
Она не хотела умирать в одиночестве, боялась этого больше всего, Леопольду не следовало ее отпускать. В комнате так холодно, хотя в очаге огонь, а Вольфганг говорит, что на дворе сейчас июнь. Должно быть, ей уже не поправиться. Понимает ли Вольферль, насколько она ослабела? В бреду она видела кладбище святого Петра, где ей так хотелось быть похороненной. Это была ее самая любимая церковь в Зальцбурге, под ней находились катакомбы, прорытые в скалах Монхсберга; неожиданно Анна Мария воскликнула:
— Похорони меня там!
— Где, Мама? — сквозь слезы спросил Вольфганг.
Но Анна Мария не слышала. Ей мерещилось, что она сидит у могилки на кладбище святого Петра и читает надпись на надгробной плите: «Здесь покоится Анна Мария Пертль Моцарт». Она уже почти забыла все эти имена. Но над чем они смеются? Вольферль в шесть лет лучше их всех разбирался в музыке. Если бы можно было попрощаться с ними. Леопольд никогда не простит Вольферлю. Но ведь погубил-то ее Париж. И еще многое другое. Вокруг нее теснились лица, множество лиц, плотным кольцом они окружили могилу. Хорошие похороны, с удовлетворением подумала она, уж этого-то дьявол не сумел лишить ее, хоть он и вездесущ. Вот только почему она не узнает все эти лица? Неужели господь ее наказывает? Она ведь так любила свою семью. Анна Мария попробовала молиться, но у нее иссякли силы. Губы шевелились, произнося слова молитвы, но их не было слышно. А внутренний голос взывал: в музыке моего сына звучит глас божий, поднимите голову — и вы услышите. И тут она услышала концерт, написанный Вольферлем для мадемуазель Женом; ей так нравилась лирическая, певучая, медленная вторая часть, по словам Леопольда, «бесподобная», но она забыла сказать это Вольферлю, а надо сказать, пока не поздно. И тут Анна Мария поняла, что умирает, — больше не слышно было даже музыки Вольферля, тьма заволокла все и поглотила ее.
Семь дней и семь ночей Вольфганг не отходил от постели Мамы, находившейся в полном беспамятстве. Он почти ничего не ел, лишь изредка выпивал глоток вина и временами думал, что теряет рассудок. Теперь, когда у него не было никакой надежды, он не мог ни на минуту оставить Маму. Когда усталость одолевала его, он ложился на свою кровать, придвинутую вплотную к Маминой, чтоб быть рядом, на случай, если понадобится помощь. Мама лежала недвижима, однако жизнь еще не покинула ее, она по-прежнему слабо, прерывисто дышала. Никто никогда не узнает, думал Вольфганг, какие муки пришлось мне пережить за эти дни. Не раз он начинал плакать от сознания собственной беспомощности. Мама умирала у него на глазах, а он бессилен был ее спасти. Доктор фон Коллер заглядывал к ним дважды, удивлялся, что госпожа Моцарт все еще жива, и говорил: теперь ей уже ничем не поможешь. Заказы, на которые Вольфганг прежде рассчитывал, из-за Маминой болезни уплывали один за другим, но какое это имело значение? Кругом стояла зловещая тишина, и в ней были только они вдвоем: он и она. Ему хотелось сочинить что-нибудь для Мамы, хорошо бы песенку. Каких-нибудь несколько бесценных нот, которые сказали бы ей: «Я так люблю вас», — но в голове не рождалась мелодия. Он мог лишь сидеть, ждать и плакать от горя до изнеможения, а его любимая музыка поступила с ним, как неверная любовница, — изменила ему.
И вот вечером 3 июля, спустя неделю после того, как Анна Мария получила последнее отпущение грехов, у нее началась агония. Терзаясь от боли, она что-то бессвязно бормотала. Вольфганг разбирал слова: «Вольферль... Леопольд... Наннерль...» Она силилась поднять от подушки голову, словно прислушиваясь к какой-то чудесной мелодии, но не могла. Вольфганг сжал Мамину руку, заговорил с ней, а она не ответила. Он приподнял Мамину голову, чтобы ей легче было говорить, но голова безжизненно упала на подушку, и внезапно Вольфганга охватил ужас. Он с плачем стал покрывать Маму поцелуями — она лежала недвижима. Тогда Вольфганг поднес к губам Мамы ручное зеркальце, которое она с гордостью провезла через всю Европу. Зеркальце не запотело.
Он упал на колени на холодный каменный пол и стал сквозь слезы молиться о спасении ее души, прося всевышнего о сострадании; бог милосерден и не может в этот момент не услышать его, и Вольфганг шептал:
— Боже милостивый, пусть ангелы твои отведут нашу дорогую Маму в твою светлую обитель.
Он вытер слезы и сделал то, что сделал бы на его месте Папа. Хотя было уже за полночь, Вольфганг написал два письма с намерением подготовить отца к страшному известию. Первое он адресовал аббату Буллингеру.
«3 июля.
Мой добрый друг! (Лишь Вам одному!)
Поплачьте со мной в этот самый прискорбный день моей жизни. Пишу в два часа ночи, чтобы сообщить, что моей матери — моей обожаемой Мамы — больше нет! Господь призвал ее к себе. В двадцать одну минуту одиннадцатого она покинула сей мир. Рядом с ней находился только я. Ничто не могло спасти ее; прекрасно понимая это, я покорился воле господней. Бог дал, бог и взял.
Сейчас я не могу описать Вам ее болезнь во всех подробностях, но убежден в том, что ей суждено было умереть — так ей, видно, написано на роду. Прошу Вас лишь об одном: окажите мне дружескую услугу, подготовьте отца к сей печальной вести. Я пишу ему с этой же почтой, но сообщаю лишь, что она тяжко больна, и буду ждать от него ответа, из которого увижу, как мне дальше действовать. Да поможет ему господь и да придаст силы. О дорогой друг мой, если бы Вы только знали, сколько за это время пережито! Лишь вера в бога помогла мне вынести столь страшную утрату!
Итак, добрый друг наш, прошу Вас, поддержите отца. Придумайте, что сказать; когда он узнает горестную правду, боюсь, как бы дух его не сломился. Вверяю Вам от всего сердца также и мою сестру. Пойдите к ним немедля, но ничего не говорите о смерти Мамы, а лишь подготовьте их. Поступайте по своему усмотрению, но прошу Вас, сделайте так, чтобы на голову мою не обрушилась новая беда. Утешьте моего любимого отца и дорогую сестру и, молю Вас, не медлите с ответом.
Благодарный Вам и покорный слуга
Вольфганг Амадей Моцарт».
Написать отцу Вольфгангу было еще труднее.
«Я вынужден сообщить Вам весьма неприятную и печальную весть, вот причина, по которой я так долго не отвечал на Ваше письмо от 11 июня. Моя любимая матушка серьезно больна, и неизвестно, что ждет нас впереди. Я положился на волю всевышнего и надеюсь, что Вы и любимая сестра последуете моему примеру. Лишь это приносит мне утешение теперь, после того как я усердно помолился господу, чтобы он сохранил жизнь и здоровье моей любимой матери. Если ей суждено будет выздороветь, я возблагодарю бога за его милосердие. Если нет — покорюсь воле господней и возрадуюсь тому, что он призвал ее к себе. Тем временем святой отец, которого я пригласил, совершил все, как положено по обряду, и теперь душа ее спокойна.
Не буду подробно писать о ее болезни, скажу только, что это, по-видимому, воспаление желудка, и, следовательно, болезнь незаразная. Поэтому за меня не волнуйтесь. Я здоров и сохраняю бодрость духа, насколько возможно при столь печальных обстоятельствах, и молюсь, чтобы и вы, мои любимые отец и сестра, пребывали в добром здравии, несмотря на услышанную от меня прискорбную весть; прошу вас не падать духом и беречь себя, помня обо мне. Шлю тысячу поцелуев, обнимаю и всем сердцем мечтаю быть рядом с Вами.
Ваш покорный и любящий сын».
Лишь один друг их семьи — Франсуа Эна — шел с Вольфгангом за Маминым гробом. Этот валторнист подружился с Папой еще в прошлые приезды Моцартов в Париж, и жена его, музыкальный издатель, выпустила в свое время «Скрипичную школу» Леопольда на французском языке.
Во время болезни Анны Марии Франсуа Эна часто заходил к Моцартам и каждый раз приносил Вольфгангу пищу и вино.
— Нужно поспешить с похоронами вашей дражайшей матушки, — сказал Вольфгангу этот маленький, подвижный, отнюдь не юный музыкант, — а то как иностранку ее могут похоронить в общей могиле с бедняками — попросту бросить в яму.
Мысль, что Мама может быть похоронена подобным образом, привела Вольфганга в ужас. Быть брошенным в землю неизвестно с кем — худшее унижение трудно себе даже представить. Неужели земля так негостеприимна! Нет, он не допустит над Мамой подобного надругательства.
— Если ее похоронят на кладбище святого Евстахия, могилу не ограбят, что нередко случается на других парижских кладбищах. Этим делом занимаются по большей части студенты-медики.
Поэтому все хлопоты по устройству похорон Вольфганг предоставил Эна. Но как больно сжалось его сердце, когда тело Мамы положили в маленький гроб! То ли она высохла за время болезни, то ли прежде казалась крупнее, чем была на самом деле... Вольфганг вдруг подумал: ему самому тоже, наверное, понадобится совсем небольшой гроб.
Он попросил Эна нанять экипаж и похоронные дроги, хотя пришлось одолжить на это луидор у Гримма. Барон принес извинения, что не сможет присутствовать на Маминых похоронах, — госпожа д’Эпинэ, сказал он, не совсем здорова, нельзя оставлять ее одну. Вольфганг сделал вид, будто ему все равно, на самом же деле его это очень обидело. Не только в Зальцбурге, но и в Вене, с горечью размышлял он, за Маминым гробом шло бы много друзей.
Он уставился на внушительный фасад церкви св. Евстахия и, чтобы удержаться от слез, стал пересчитывать украшавшие фасад греческие колонны, но сердце его разрывалось от горя. Когда гроб вносили в церковь, какой-то оборванец мочился тут же, прямо на улице. Выгребная яма рядом с церковью воняла так, словно ее не чистили многие годы, с того самого времени, когда Вольфганг бывал здесь еще ребенком, а на стене церкви он заметил желтый потек — здесь тоже явно не раз мочились.
На кладбище Вольфганг обнаружил могилу Рамо, и у него немного полегчало на душе — нет, не такое уж плохое он выбрал место для Мамы. На огромном памятнике он прочел золоченую надпись: «Жан-Батист Кольбер, министр финансов». В свое время этот вельможа добыл для Людовика XIV немалые деньги. Великолепие могилы повергло Вольфганга в уныние. Затем его внимание привлекла еще одна надпись: «Франсуа де Шеветт, генерал-лейтенант королевской армии,
Несколько человек, присутствующих в церкви, не обратили на похороны никакого внимания, слишком уж скромно хоронили. Все в этой церкви нагоняло на Вольфганга тоску: каменный пол, каменные стены, скудное освещение; когда отпевание кончилось, он с облегчением вышел наружу — солнечный свет заливал кладбище. Священник, совершивший последний обряд, спросил Вольфганга:
— Вы ближайший родственник мадам Моцарт?
— Да, я ее сын. Единственный сын.
— В таком случае, мсье, прошу вас расписаться в приходской книге.
Вольфганг внимательно прочел запись, чтобы удостовериться, не допущена ли ошибка: «4 июля 1778 года Анна Мария Пертль Моцарт, 57 лет от роду, жена Леопольда Моцарта, капельмейстера города Зальцбурга, умершая вчера на улице Гро Шенэ, была похоронена на кладбище в присутствии ее сына, Вольфганга Амадея Моцарта, и Франсуа Эна, друга семьи».
Он подписал просто: «Моцарт».
Эна поставил рядом свое имя, и Вольфганг помолился, чтобы бог принял Мамину душу. Но когда священник прочел скороговоркой последнее напутствие и гроб с Маминым телом опустили в землю среди совершенно чужих могил, Вольфганг подумал, что бог слишком далеко и вряд ли его услышит.