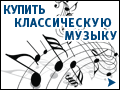По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
И. Бэлза. Повесть о жизни и гибели Моцарта. 5
Формирование интеллекта Вольфганга неуклонно отражалось на содержании его музыки, в частности на сценических образах, причем нельзя не заметить постепенного углубления этических проблем, приобретавших со временем все более и более серьезное значение в мировоззрении Моцарта. А вместе с тем расширяется и образный строй музыки во всех областях его творчества.
С юных лет Моцарт победоносно утверждал значение сонатно-симфонического цикла, трактуя его как широкий круг идейно-эмоциональных образов, примером чему могут служить симфонии и камерно-инструментальные ансамбли Моцарта, не имеющие себе равных по драматизму и контрастам, на которых строится содержание и развитие сонатной формы: сонатное аллегро с двумя темами, вступающими в противоборство, медленная, обычно лирически-созерцательная часть, менуэт, уже у Бетховена превратившийся в скерцо, и стремительный финал. Целый мир чувств и переживаний, никогда, впрочем, не подчиняющийся у Моцарта схеме музыкальной формы, элементы которой он нашел в творчестве яромержицких и мангеймских мастеров и, конечно, Гайдна.
Дэвиду Вейсу удалось искусно переплести сюжеты моцартовских опер, о которых речь идет в десятом разделе книги, с жизнью ее героя, с его взглядами и убеждениями. Здесь ярче всего возникают ситуации, в которых, так или иначе проявляется личность великого композитора. Мелкие уколы и тяжелые удары сыплются на него. Стоит только вспомнить негодяя Арко, обстановку императорского двор, при котором делали карьеру ловкие ремесленники, хозяев этого двора, зловещую фигуру Марии Терезии, в разгар бала покидавшую гостей и мчавшуюся в габсбургский склеп, порученный заботам отцов-капуцинов. Но разве эта жестокая, хотя и слезливая старуха, похоронившая мужа и стольких детей, была хоть немного более чуткой, чем ее августейший сын, считавший, что орден Золотого руна, с которым1 он не расставался, придает ему неземное величие?
И разве более чуткой оказалась женщина, которую полюбил Моцарт, Алоизия Вебер? И каким унижениям подвергся «забавный (funny) маленький человек», добиваясь брака с Констанцей, которая, судя по всему, так же мало понимала, чем был ее муж, как Наталья Николаевна, муж которой был только камер-юнкером.
Итак, «Похищение из сераля». Похищение Констанцы... Фрау Вебер была, видимо, гораздо менее великодушна, чем паша Селим, узнавший в Бельмонте сына своего заклятого врага, но простивший его за неудавшийся побег вместе с возлюбленной. Так же, как и во многих других случаях, Моцарт принял деятельное участие в работе над либретто оперы (в особенности над вторым и третьим актами), предложенным ему молодым актером Готлибом Стефани, переработавшим пьесу плодовитого венского комедиографа Криштофа Фридриха Бретцнера, немало сердившегося за переделки, которым подверглась его пьеса в процессе превращения в либретто. Но «Похищение» прошло с триумфальным успехом, и Моцарт стал первым композитором, не связанным со службой при дворе духовного или светского владыки. Впоследствии его примеру последовали Бетховен и Шопен. Шуберт, правда, тоже не служил, но только потому, что тогда, когда он буквально умирал с голоду, происки Сальери помешали ему получить должность второго учителя музыки в провинциальной школе.
Моцарт охотно принял бы придворный пост, соответствующий его рангу мастера. Но «чудо-ребенок», гением которого некогда восторгались чуть ли не все столицы Европы, был забыт, вельможи восхищались шпагоглотателями, плясуньями, чревовещателями и, превыше всего, загадочными личностями, которыми так изобиловал XVIII век, поныне называемый «Веком Просвещения». Но к просвещению стремились не вельможи, угодливо создававшие легенду «иозефинизма» (для коронованного после смерти Франца I в 1765 г. императора Иосифа" II Моцарт значил едва ли больше, чем для фрау Вебер), а проницательные и дерзкие умы. И тогда, когда оказалось, что Моцарт не только покорил своей музыкой венцев, но и привлек к своей сильной личности пристальное внимание цвета австрийской общественности, интриги, рожденные завистью, начали множиться.
Образ паши Селима был достаточно многозначителен. Но в «Свадьбе Фигаро» появился на сцене вельможа, одураченный «простолюдинами», а «ужасная пьеса», па сюжет которой была написана эта опера, вызвала еще раньше негодование Версаля. Аббату Лоренцо да Понте удалось добиться разрешения венского двора на реализацию этого сюжета, комедийность которого он так усердно подчеркивал. Чешские друзья предупреждали отца доверчивого композитора об интригах, затеянных его врагами. Встревоженный Леопольд писал дочери: «Сальери и вся его свора опять попытаются перевернуть небо и землю. Душек сказал мне недавно, что против твоего брата плетется столько интриг, потому что его так уважают за его выдающийся талант и мастерство...»
Конечно, это объяснение нельзя признать исчерпывающим. Гений Моцарта мешал многим. Даже такое ничтожество, как состоявший в «своре Сальери» Леопольд Кожелуг (имя Леопольд он принял, чтобы выразить свои верноподданнические чувства при коронации нового императора — преемника Иосифа II), считал себя «соперником» Моцарта. Но громадный успех произведений Моцарта, казалось бы, делал его в этом отношении неуязвимым. Гораздо опаснее было другое. Моцарт, считавший, что «сердце делает человека благородным», был ненавистен той части австрийской знати, которая была чужда интеллектуальных, а тем более этических проблем. Иосиф II держал при своем дворе «Кальвина музыки» для сочинения танцев, исполнявшихся во время шёнбруннских маскарадов. «Слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что я мог бы делать», — говорил Моцарт о своем нищенском жалованье.
«Первым музыкантом империи» в это время вполне официально был Сальери, умелый ремесленник, ретиво исполнявший свои обязанности и пользовавшийся высоким положением для продвижения своей «своры» и преследования инакомыслящих. Не забудем, что после переезда в Вену «синьор Бонбоньери» десять лет прожил там в епископском доме, завязал прочные связи и всю жизпь стремился слыть человеком богобоязненным.
Иначе обстояло дело с Моцартом. Мудрый, но прямодушный мастер создавал в своих операх образы благородства и честности, этической правоты и духовной силы, человека, противостоящего социальной несправедливости и моральным компромиссам, всегда унижающим людей. Пламенно любивший жизнь Моцарт стремился представить ее во всей сложности, во всех эмоциональных градациях, от высокого трагизма до веселой комедии. Именно это многообразие чувств и переживаний дало основание лексикографу Иозефу Хор-майру в своем знаменитом двадцатитомном «Австрийском Плутархе» назвать Моцарта «Шекспиром музыки».
«Дон-Жуан», о котором один из персонажей романа Вейса презрительно говорит, что эта опера через год будет уже забыта, явился едва ли не наиболее убедительным подтверждением характеристики, данной Хормайром Моцарту, — настолько великолепен и богат образный строй «оперы опер», по праву считающейся непревзойденным шедевром музыкально-сценического искусства. К сожалению, Вейс не останавливается на развивавшихся в период окончания оперы плодотворных творческих связях с чешскими музыкантами. Наиболее подробно об этих связях пишут Пауль Неттль («Mozart in ВбЬшеп», Prag, 1938) и Карель Коваль («Mozart v Praze», Praha, 1957).
Быть может, мало пишет Вейс, увлеченный неумолимо развивающимися событиями в жизни Моцарта, о жизненной правдивости, все ярче и ярче проявлявшейся в его операх, включая написанного для Праги «Дон-Жуана». Между тем именно эта правдивость, зачастую достигаемая необыкновенной выразительностью мелодии, позволяет отнести онеры, созданные Моцартом на протяжении последнего десятилетия его жизни, к рубежным свершениям в этом жанре. В «Бертрамке» — тогда загородной вилле Франтишка Ксавера Душека, «отца чешской клавирной музыки», — а также в гостинице «У трех золотых львят» (как странно это название перекликается с пушкинским «трактиром Золотого льва») Моцарт провел пражские месяцы своей жизни, общаясь со многими выдающимися чешскими музыкантами, артистами и писателями.
То была эпоха патриотически-просветительского «будительского движения». И хотя формально Священная Римская империя перестала существовать только в начале следующего столетия, Моцарт здесь, в Праге, понимал все более и более отчетливо то, что улавливалось в тревожных беседах, в которых он участвовал в венских масонских ложах, достигнув высшей степени посвящения по так называемому шотландскому обряду (она символизировалась именем Адонирама, легендарного хранителя сокровищ и патрона строительства храма царя Соломона). Народно-освободительные восстания тревожили вельмож, беседовавших с Вольфгангом о равенстве людей в «иоанновых ложах» Вены.
И нужно сказать, что ранние контакты с венскими масонами произвели на Моцарта, даже судя по его немногим сохранившимся письмам, чрезвычайно сильное впечатление. Как известно, Моцарт был человеком высокой культуры, отличался начитанностью, и начало венского периода его жизни ознаменовалось напряженностью размышлений, проявившейся, в частности, в постепенном отходе от католичества: последняя, до-минорная месса, над которой Моцарт работал в 1783 году (т. е. именно тогда, когда он стал масоном), осталась незаконченной и была впоследствии переделана в кантату («Davidde penitente») «Кающийся Давид» с отчетливо выраженной масонской тематикой. За этой кантатой последовали другие произведения, в том числе и написанные на тексты членов масонских лож, а также получившая широкую известность «Траурная симфония», посвященная памяти членов Ордена — герцога Георга Августа фон Меклен-бург-Штрелитц и графа Франца Эстергази фон Таланта.
Постепенно Моцарт, которому были близки проповедовавшиеся в ложах идеи братства и равенства людей, убедился, однако, что на собраниях лож преобладали выспренние речи, многозначительная мистическая символика и что данная им некогда «присяга чудная четвертому сословью» не претворялась в жизнь. Были, видимо, у Моцарта причины, побудившие его предпринять в последние месяцы жизни попытку создать новую, не зависевшую от сильных мира сего, масонскую организацию — ложу «Грот». Вряд ли эта попытка увенчалась бы успехом даже в том случае, если бы Моцарту суждено было прожить еще несколько лет.
Последние годы жизни Моцарта более чем когда-либо были омрачены нуждой, интригами и унижениями, не попятными ему, чистому сердцем и полному возвышенных мыслей. Он попытался воплотить эти мысли в «Волшебной флейте», законченной незадолго до смерти и основанной на сказочном сюжете и символике, близкой к масонской. Судя по всему, император Иосиф II в последние месяцы своей жизни начал воздавать должное Моцарту — и это тревожило завистников.
Последняя поездка Моцарта в Прагу связана с возложением на Леопольда II чешской короны. Во время коронационных торжеств исполнялись «Доп-Жуан» и «Милосердие Тита», написанное в небывало короткий срок специально для этих торжеств. Из воспоминаний современников явствует, насколько глубокими были в этот период раздумья Моцарта о моральном преображении человечества, подобном тому, которое произошло с принцем Тамино в «Волшебной флейте».
В середине сентября 1791 года, принесшего больше произведений Моцарта, чем какой-либо иной год, мастер возвращается в Вену. Атмосфера, которую создают ему недоброжелатели, становится все более и более невыносимой, и русский посол в Вене граф Андрей Кириллович Разумовский примерно в то же время пишет светлейшему князю Потемкину-Таврическому, что Моцарт, «имея основания быть недовольным», согласится приехать в Россию, если Разумовский получит разрешение сделать ему такого рода предложение. Но вскоре после того, как это письмо было послано, умерли и Моцарт и Потемкин, а 1 марта 1792 года скончался Леопольд II, лейб-медик которого публично заявил, что император был отравлен...
В начале октября 1791 года Моцарт, судя по его письмам к жене, был в отличном настроении, чему, возможно, содействовали многочисленные исполнения его опер: вслед за «Волшебной флейтой», которая шла в Вене в конце сентября и в октябре, итальянская труппа показала в Дрездене и Праге «Так поступают все», в Кельне был поставлен «Дон-Жуан». 18 ноября Моцарт дирижировал в венской ложе «Вновь увенчанной надежды», сочиненной им специально для открытия нового «храма» этой ложи, к которой он принадлежал, «Маленькой масонской кантатой». То было последнее выступление Моцарта. 20 ноября он слег, а в пятьдесят минут после полуночи в ночь на пятое декабря его уже не стало. Врачи поставили самые фантастические диагнозы, противоречащие друг другу и впоследствии опровергнутые медицинской наукой. С непонятной поспешностью Моцарта похоронили «по третьему разряду» (иначе говоря, закопали во рву, куда сбрасывали тела бродяг и самоубийц) на кладбище св. Марка.
Судя по свидетельству о смерти Моцарта, он все же не удостоился последнего причащения, хотя близкие его видели, что он умирает. Гроб с его телом не внесли в храм хотя бы для краткого отпевания, как того требует погребальный церемониал католической религии, а напутствовали в так называемой часовне св. Креста, и никто из сопровождавших катафалк до кладбища не дошел. Гроб простоял всю ночь в монастырской мертвецкой, а утром следующего дня сторож потащил его ко рву, вскоре засыпанному. Спустя короткое время скончался и сторож, а через неделю после смерти Моцарта в печать проникли сведения, что великий композитор был отравлен.
В совершении этого злодеяния молва обвинила Сальери, который, как известно из опубликованных записей в разговорных тетрадях глухого Бетховена, в
Впрочем, преступлению этому уделено очень мало страниц в романе Вейса «Возвышенное и земпне». Но в романе «Убийство Моцарта» (русский перевод этого романа опубликован также с моим предисловием в журнале «Волга», 1972, №№ 3, 4, 5) тайна гибели великого композитора занимает центральное место. Более всего захватывает в этих книгах, основанных, как уже было сказано, на прочной фактографической канве, обаятельный образ Моцарта, удивительно совпадающий с концепцией труда Улыбышева, начатого в год благословенной «болдинской осени», принесшей завершение «Моцарта и Сальери» — «лучшей биографии Моцарта», как назвал эту трагедию А. К. Лядов, любимец Римского-Корсакова, положившего ее, как известно, на музыку. Пушкин был завсегдатаем в салоне австрийского посла в Петербурге, графа Фикельмона, и как знать, что сообщил ему граф о признаниях Сальери, ставших достоянием вепскон общественности?...
Но, говоря о близости позиции Вейса к Улыбышеву, нужно сделать чрезвычайно важную оговорку. Оба автора, и это сразу же чувствуется, находятся под обаянием человечнейшей личности Моцарта. Но Улыбышев считает, что этому великому человеку суждено было стать величайшим музыкантом мира благодаря воле Провидения. Иначе поступает Вейс. Любому музыковеду сделал бы честь его анализ формирования творческого облика Моцарта, ставшего таким же неповторимым, уникальным явлением в своей области, как, скажем, Данте, Леонардо или Пушкин. Вейс показывает множество «манер», которые в какой-то степени помогли Моцарту накопить гигантский опыт, умноженный великими свершениями баховской школы и откровениями молодого оперного искусства. Очень топко отмечает Вейс критическое отношение Моцарта ко всему, что он воспринимал, ибо гений Вольфганга — и автор книги не раз умело подчеркивает это — блистал самобытностью.
Нужно напомнить, что Моцарт, хотя Вейс об этом не говорит, жадно поглощал но только музыку, но и литературу и все виды искусства. Он испытывал живую радость общения с людьми и был на редкость щедр в дружбе и в любви, хотя об избраннице его немало суровых слов сказал уже Улыбышев (вспомним хотя бы историю с продажей копий «Реквиема»). Вейс еще более строг по отношению к Констанце — но это его право. Не получает разгадки в книге «тайна Реквиема», — по всей вероятности, из-за того, что исследования последних лет показали, что тайна эта еще более сложна, чем предполагалось в прежние годы.
И наконец, нельзя не остановиться на этической коллизии «гения и злодейства», Пронизывающей всю книгу и играющей в ней едва ли не первенствующую роль. Когда Моцарт соприкасается с высокими произведениями искусства, он восхищается ими, он воздает должное и забытому ныне Вагензейлю, в прошлом учителю музыки Марии Терезии, и великому Гайдну. А когда «завистники презренные» встречаются с великими мастерами, то в сердцах этих недостойных людей вспыхивает ненависть. Эта коллизия придает трагический характер трактовке темы, которой она посвящена. Именно поэтому роман Дэвида Вейса, повествующий о жизни и творчестве великого и прекрасного человека, кончается его гибелью.