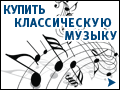По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Дэвид Вэйс. «Возвышенное и земное». Часть 11. 90
Вольфганг пришел в сознание и увидел сидящих возле своей постели Констанцу и Софи. На мгновенье его взяла досада — зачем вызвали Констанцу, к чему ее расстраивать? Но тут же он обрадовался, ему так недоставало ее все время.
— Где Карл и Франц? — спросил он.
— У бабушки, — ответила Констанца. — Не волнуйся за них.
Констанца увезла детей из дому; теперь Вольфганг понял, что тяжело болен.
— Ты несколько дней был без сознания. Тебе нужен полный покой.
Он попытался приподняться на постели и поцеловать Станци, но сил не хватило — все тело его, руки и ноги опухли. Тупая боль в желудке по-прежнему не отпускала. Но хуже всего была слабость, овладевшая им, и ощущение полной беспомощности.
Констанца поцеловала Вольфгапга и сказала:
— Почему ты не дал знать мне раньше?
— Не хотел тебя огорчить.
— Но ведь ничего не знать еще хуже.
Он хотел обнять ее и не мог — руки больше не повиновались ему.
— Я сошью ночную рубашку, тебе будет удобнее.
— Мне хочется перейти в гостиную. Там я буду смотреть из окна на улицу и слушать, как поет наш кенарь. Это поможет мне сочинять музыку.
— Доктор Клоссет запретил тебе работать, нужно лежать и отдыхать.
— Впереди еще много времени для отдыха. Можно мне перейти в гостиную?
Вольфганг попытался встать и сам дойти до гостиной, но от слабости не мог держаться на ногах. Их небольшая пятикомнатная квартира представлялась ему сейчас такой же огромной, как Шёнбрунн. Но когда кровать пододвинули вплотную к выходящему па улицу окну, Вольфганг почувствовал себя лучше. Из окна виден был весь их узкий темный переулок Химмельпфортгассе, прямо против окна пересекающий Раухенштейпгассе, а чуть наклонившись вперед, можно было различить стену ресторана, где состоялся его последний концерт.
В последующие дни он понемногу работал над реквиемом вместе с Зюсмайером. Руки сильно распухли, держать перо Вольфганг не мог, и он стал диктовать своему ученику, наставляя, как строить последующие части. Серьезный, мрачный Зюсмайер никогда не станет вторым Моцартом, размышлял Вольфганг, но музыкант он добросовестный.
Зюсмайер думал: зря господин капельмейстер все время твердит, будто его отравил Сальери. Доказательств ведь нет никаких, Сальери — композитор, пользующийся огромным успехом, зачем ему совершать столь неразумный поступок? Моцарт — такой непрактичный человек. Прошлой зимой, когда Зюсмайера впервые привели к композитору, тот не переставая танцевал со своей женой по всей гостиной, а на вопрос — почему он это делает, Моцарт ответил: «Мы согреваемся, здесь ужасно холодно, а купить дрова нам не по карману». Что ж удивляться, что композитор заболел? Маэстро очень небережлив и, конечно, стараясь заработать на жизнь, слишком уж напряженно трудился. Последние недели, работая над «Милосердием Тита» и «Волшебной флейтой», Моцарт писал музыку тридцать пять дней без передышки. Зюсмайер точно подсчитал дни, он помогал господину капельмейстеру; это могло пригодиться ему в будущем, только из этих соображений он и взялся помогать. Моцартом он, возможно, никогда не станет, но до такой нищеты тоже не дойдет. Как ученик и последователь Моцарта, он сразу сделает себе имя после смерти господина капельмейстера.
Напряженная работа над реквиемом утомила Вольфганга. Он совершенно обессилел, но когда в комнате появилась Констанца — посмотреть, не нужно ли вызвать доктора, он попытался принять веселый вид и тут же лишился сознания. Придя в себя, Вольфганг увидел доктора Клоссета и вдруг взволнованно крикнул:
— Меня ведь отравили, доктор? Испорченной провизией? Это сделал Сальери.
— Чепуха! Я вам уже говорил, вы дошли до полного истощения.
— Но у меня такие боли в животе!
— Все болезни прежде всего поселяются в желудке.
— Ничего удивительного, что меня так мутит, — вздохнул Вольфганг. — Чего только моему желудку не приходилось переваривать!
— Прежде всего нужно попытаться снизить жар. Возможно, доктор и прав, подумал Вольфганг. Лекарства, прописанные Клоссетом, снизили жар, боль в желудке уменьшилась или, может быть, он просто свыкся с ней? Несколько вечеров он занимал себя тем, что, лежа в постели, ставил часы на грудь и следил по ним, какое действие «Волшебной флейты» сейчас идет на сцене театра.
Опера пользовалась огромным успехом, говорила ему Станци, но Шиканедер с обещанными дукатами не появлялся. Мало-помалу у Вольфганга вошло в привычку смотреть на часы и приговаривать:
— Началась увертюра. Тамино уже на сцене, а вот и Папагено. — И Вольфганг пытался напевать первую песенку птицелова, но голоса его почти не было слышно.
Однако и это развлечение стало его утомлять, теперь уже ни на что не хватало сил. Жар снова усилился, и 28 ноября доктор Клоссет пригласил на консилиум доктора фон Саллабу.
Доктор фон Саллаба, Главный врач центральной венской больницы, удивил Вольфганга своей моложавостью, однако доктор Клоссет, который был гораздо старше Саллабы, относился к своему коллеге с заметным почтением.
Никто не сказал Вольфгангу, к какому выводу пришли доктора, но Станци выглядела очень испуганной. Снова открылась рвота, желудок не принимал никакой пищи, и Вольфгангу казалось, что он уже одной ногой в могиле.
И все-таки утром в воскресенье, 4 декабря, когда должны были прийти несколько певцов, чтобы исполнить часть его реквиема; Вольфгангу немного полегчало, хотя ночь он провел ужасную.
Констанца от горя едва держалась на ногах. Состояние больного безнадежное, заявили лекари, у него тяжелая форма брюшного тифа, а Зюсмайер, явившийся в этот день помочь певцам при исполнении реквиема, сказал Констанце, сообщившей ему диагноз врачей:
— Один мой родственник умер с теми же симптомами, что и у господина капельмейстера, а доктора уверяли, будто у него болезнь почек. Только, пожалуй, лучше не говорить ему о почках, как бы он снова не заподозрил отравления.
— Это подозрение не дает ему покоя. Не позовете ли вы мою сестру?
Когда явилась Софи, у постели Вольфганга сидели три музыканта и вместо с ним пели реквием. Вольфганг пел партию альта и, казалось, немного приободрился.
Констанца увела Софи в другую комнату и испуганно прошептала:
— Слава богу, что ты пришла. Прошлую ночь ему было так плохо, я думала, он не доживет до утра. Останься сегодня вечером, если ему будет так же тяжко, он может ночью умереть. Посиди возле него, прошу тебя. Он тебя очень любит!
Софи с трудом взяла себя в руки и вошла в спальню. Вольфганг уже не пел — голос окончательно отказал ему, таким несчастным Софи его еще не видела. Музыканты успокаивали больного, обещали прийти в следующее воскресенье и продолжить с того места, где остановились, но Вольфганг отодвинул партитуру и прошептал сквозь слезы:
— Я ничто, ничто! Без музыки я ничто! — Заметив Софи, он поманил ее к себе и сказал:
— Софи, милая, как хорошо, что ты пришла. Останься сегодня у нас, ты должна видеть, как я умираю.
— Вы просто ослабели и угнетены. Это естественно. После такой ужасной ночи.
— Привкус смерти уже у меня на языке, Софи. Кто позаботится о Станци, когда меня не станет?
К ночи ему сделалось совсем плохо. Констанца упросила сестру сходить в церковь св. Петра за священником. Но ни один священник не соглашался прийти. Моцарт — масон, говорили они, язычник. Но Софи не хотела этому верить. Более благочестивого человека, чем Вольфганг, Софи не знала, он никогда не раздражался, не выходил из себя. Ей все-таки удалось уговорить молодого священника, любителя музыки, и тот обещал причастить умирающего.
Когда они вошли в дом, у постели Вольфганга сидел Зюсмайер. Партитура реквиема лежала на покрывале, и Вольфганг наставлял ученика, как закончить реквием после его смерти. Затем, попросив священника немного подождать, он прошептал на ухо Констанце:
— Не сообщай никому о моей смерти, пока не дашь знать Альбрехтсбергеру, пусть он попытается получить мое место в соборе св. Стефана. Оно принадлежит ему. Он прирожденный органист и не раз прекрасно играл во время служб.
Вольфганг чувствовал, что священник смотрит на него неодобрительно, хотя и свершил над ним последний обряд отпущения грехов.
Он лежал, мучаясь от боли, и Зюсмайер воскликнул:
— Надо позвать Клоссета! Доктор облегчит его страдания. Госпожа Моцарт, вы не знаете, где его можно найти?
Констанца от горя не могла вымолвить ни слова. В полуобморочном состоянии она лежала на кровати в своей комнате. Вольфганг с трудом выговорил:
— Доктор сейчас в театре. Он пошел послушать «Волшебную флейту». Я дал ему билеты за то, что он пригласил своего коллегу. Ему понравится Папагено. Доктор ничего не понимает в музыке, но Папагено нравится всем. Софи, где же Станци?
— Она прилегла.
Зюсмайер кинулся за Клоссетом.
— Разве она нездорова?
— Ей нужно отдохнуть. Прошлую ночь она плохо спала.
— Я знаю, — печально проговорил Вольфганг, — Это все из-за меня.
— Вовсе нет. Но вам было очень плохо.
— Что там плохо, я умираю, Софи, умираю. — Теперь, когда жизнь его подошла к концу, так хотелось все начать сначала. — В моем несгораемом шкафу лежат партитуры трех последних симфоний. Позаботься, чтобы они не пропали. Может быть, когда-нибудь они дождутся исполнения.
Он погрузился в какой-то странный мир, где все казалось чуждым, где не было даже Папы и Мамы. Он закрыл глаза, желая избавиться от этого наваждения. С тех пор как он слег, ни разу возле его постели не появлялись Пухберг, Ветцлар или ван Свитен. Но это не так уж важно. Он даже не мог вспомнить всего, что сочинил. Но жизнь ведь сильнее смерти. Разве он не доказал это своей музыкой?
Потом он услышал, как Зюсмайер сказал Софи, — к счастью, он еще не лишился слуха:
— Доктор Клоссет не хотел идти, пока не закончится опера.
— Я уж думала, он никогда не придет, — сказала Софи, — где же он?
— Моет руки. Боится подцепить какую-нибудь заразу.
— Зюсмайер, — пробормотал Вольфганг, — много было народу на «Волшебной флейте»?
— Зал ломился от публики. Как всегда. Певцов без конца вызывали на «бис». Кричали: «Браво, Моцарт!»
Софи показалось, что Вольфганг улыбнулся, но так ли это было па самом деле?
Зюсмайер не добавил, как возмутил его доктор Клоссет, — он отказался покинуть театр до окончания спектакля. Опера Моцарта заинтересовала доктора, а композитору, считал он, уже ничем не поможешь.
Вольфганг видел, как наклонился над ним Клоссет. Доктор прикладывал к его пылающему лбу холодные компрессы, а ему казалось, будто его распинают па кресте — страшная боль в спине пронзила насквозь. Пой громче, любовь моя, пой громче! Все утверждали, что хуже всего на свете — слепота, но это не так, самое главное — способность слышать. Он уже плохо видел, перед глазами все расплывалось, но не ожидал, что потеряет и слух. Теперь он понял, что такое смерть.
Это тишина.
Клоссет обещал Софи, что холодные компрессы снизят жар и облегчат боли больному, но вместо этого Вольфганг снова потерял сознание. Доктор безнадежно развел руками: — Медицина не в силах ему помочь, — и покинул дом.
Софи сидела у постели Вольфганга, Констанца в полной прострации лежала в своей комнате, и Зюсмайер ухаживал за ней; и вдруг Софи услышала, как Вольфганг пробормотал: «Что делает мир со своими детьми». Затем у него судорожно задергался рот, он пытался изобразить партию барабанов в своем реквиеме, приподнял голову, словно прислушивался к их дроби, потом отвернулся к стене и затих. Полночь уже миновала, настал понедельник, 5 декабря 1791 года. Часы показывали без пяти минут час, когда Вольфганга не стало.