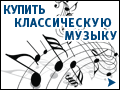По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Дэвид Вэйс. «Возвышенное и земное». Часть 11. 87
Леопольд, правитель Тосканы и брат Иосифа II, сменил его на троне. В Вене ходило множество всяких слухов о переменах, предстоящих в придворном музыкальном мире — новый император не одобрял большинство назначений Иосифа, — и Вольфганг лелеял надежду, что при дворе Леопольда для него найдется лучшее место
Когда миновали месяцы траура, в придворном театре было назначено пять представлений оперы «Так поступают все». Вольфганг подал петицию эрцгерцогу Франциску — наследнику Леопольда и его любимцу, который в прошлом весьма одобрительно относился к музыке Вольфганга, — с просьбой назначить его на место помощника придворного капельмейстера. Он указал в петиции на свой опыт в сочинении духовной музыки и предлагал свои услуги королевской семье в качестве учителя музыки. Петиция его была оставлена без внимания.
Вольфганг продолжал получать каждые три месяца свое жалованье, но на жизнь не хватало. Двести дукатов, полученные за новую оперу, быстро ушли на расплату с долгами. Вольфганг пытался найти учеников, но никто не проявлял желания брать у него уроки. Он сочинил два струнных квартета — Артариа пообещал их продать, однако желаюших купить их оказалось так мало, что вырученная за проданные экземпляры сумма не покрыла даже расходы по переписке партитуры. В конце концов, Вольфганг вернулся к Генделю и стал сочинять для ван Свитена новый аккомпанемент к «Празднику Александра» и «Оде святой Цецилии» за ничтожное вознаграждение.
Констанца снова заболела, ей помогали лишь лечебные ванны в Бадене, и, несмотря на долги, Вольфганг постарался послать ее туда на все лето. Когда она упрекала его в том, что он вечно не в духе, он не признавался, что сам часто чувствует недомогание и мучается из-за долгов. Вольфганг не хотел волновать Констанцу, однако его беспокоило собственное здоровье: стоило ему избавиться от одной болезни, как на него тут же наваливалась другая. Все это Вольфганг скрывал от Станци, но отделаться от печальных мыслей, неотвязно преследовавших его, не мог.
Он посылал Пухбергу письмо за письмом с просьбами о деньгах. И хотя уверял друга, что положение его вскоре непременно улучшится, сам уже в это не верил. И друг ссужал его все меньшими суммами, высылал половину того, что Вольфганг просил, а то и меньше.
В сентябре, когда Станци с Карлом Томасом находились еще в Бадене, Вольфганг попытался написать новый концерт для фортепьяно, но у него ничего но получилось. Он отчаянно скучал по жене и сыну. Лежавшая перед ним нотная бумага была вся в кляксах от слез. Решив, что всему виной квартира — она казалась такой пустой без Станци и Карла Томаса, — Вольфганг выбежал на улицу. Обычно, когда работа не ладилась, он отправлялся гулять, и во время прогулки рождались новые музыкальные замыслы. Остановившись на Дворцовой площади, он посмотрел на дворец Коллальто. Дворец находился совсем рядом с их теперешней квартирой, там он выступал, впервые приехав в Вену. С тех пор он ни разу не бывал во дворце Коллальто.
Вернувшись домой, Вольфганг понял: необходимо переехать отсюда. Какова бы ни была причина, писать в этой квартире он больше не может, а без работы он погиб!
Квартира в пять комнат, снятая им на Раухенштейнгассе, была более просторна и находилась на первом этаже — это значило, что Констанце придется подыматься только на один этаж, да и собор св. Стефана поблизости, и тот дом, где он писал своего «Фигаро» и где ему так улыбалось счастье. Но стоила новая квартира вдвое дороже, и долгов прибавилось.
В октябре во Франкфурте предстояла коронация Леопольда императором Священной Римской империи — и Вольфганг решил поехать туда в надежде, что такое событие заставит Леопольда прибегнуть к его услугам. Но Констанца воспротивилась.
— Двор уже остановил свой выбор на Сальери, и уж он-то никогда не допустит, чтобы новый император дал тебе заказ. С твоей стороны очень неразумно ехать туда. Истратишь кучу денег и окажешься простым зрителем.
— Во Франкфурте соберется вся знать. Туда приедет цвет европейской аристократии и самые богатые люди. Пусть даже новый император не воспользуется моими услугами, все равно я вернусь с солидным заказом.
Мысль о путешествии воодушевила Вольфганга и покрыла румянцем его щеки, таким Констанца его не видела со времени поездки в Пруссию. Но чтобы оплатить дорогу, пришлось заложить столовое серебро и серебряное блюдо, потому что Пухберг и Гофдемель дать денег отказались.
— Я вернусь, и мы сразу же все выкупим, — уверял он расстроенную Констанцу. — Во Франкфурте меня до сих пор хорошо помнят.
Вольфганг действительно встретил во Франкфурте много старых друзей, но Леопольд II так и не воспользовался его услугами. Имея в своей свите Сальери, император не нуждался в каком-то Моцарте, которого считал просто нищим попрошайкой. На церемонии коронации музыка Вольфганга совсем не исполнялась.
Ему милостиво разрешили дать концерт после того, как празднества, связанные с коронацией, закончились и большинство именитых гостей покинули город. Оба его фортепьянных концерта хвалили, но денег он ниоткуда не получил. Второй назначенный концерт пришлось отменить, потому что он не вызвал достаточного интереса у публики. Выступая в Мангейме, Мюнхене и Майнце, Вольфганг заработал достаточно, чтобы вернуться в Вену, но не мог отказать себе в удовольствии повидаться с четой Вендлингов и Каннабихов. И как ни радостно было вспомнить прошлое, в уме неустанно шевелилась мысль: неужели и я состарился так же, как они?
Вольфганг отсутствовал дома шесть недель. «Чего же ты добился?» — повторил он вопрос, заданный ему Констанцей, когда вернулся в ноябре, и ответил:
— Везде, где бы я ни появлялся, меня встречали как самого почетного гостя, бурно аплодировали и приветствовали повсюду, но народ там еще скупее, чем в Вене.
Дома его ждало письмо из Лондона. Роберт Мей О’Рейли, представитель лондонской оперной труппы, писал:
«Мсье Моцарту, прославленному композитору. От людей, приближенных к его королевскому высочеству принцу Уэльскому, — молодого, но выдающегося оперного композитора Стефана Сторейса, Вашего прежнего ученика, и от столь же молодой и блистательной примадонны Энн Сторейс, мне стало известно, что Вы намерены посетить Англию. Поскольку я был назначен на занимаемую мною должность директора лондонской оперной труппы со специальной задачей лично заняться подыскиванием талантов, я имею честь предложить Вам, маэстро, место, на которое редко могут рассчитывать композиторы в Англии. Если Вы сможете приехать в Лондон в конце декабря 1790 года и остаться до конца июня 1791 года и сочинить по крайней мере две оперы, серьезные либо комические — по усмотрению нашего театра, — я готов предложить Вам триста фунтов стерлингов. Вам будет предоставлено, кроме того, право писать сочинения для любого лондонского концерт-холла, но только не для других оперных театров. Если Вас устраивает это предложение и Вы согласны принять его, прошу Вас но отказать в любезности передать свой ответ с обратной почтой. Это письмо послужит Вам гарантией заключенного между нами контракта».
Вольфганг пришел в восторг от этого предложения и очень удивился, что Констанца не разделяет его чувств.
— Триста фунтов стерлингов за две оперы! — воскликнул он. — Гораздо больше, чем я получаю за оперу в Вене. К тому же очень сомнительно, будут ли и впредь здесь ставить оперы, Леопольд их не любит.
— Откуда у тебя такая уверенность, что в Англии все будет так, как он пишет? — возразила Констанца.
— О’Рейли — личный представитель принца Уэльского. — Ты думаешь, он лучше остальных, которые столько тебе обещали и ничего не делали?
— Ребенком я пользовался в Англии огромным успехом. И во всех письмах мои английские друзья утверждают, что Лондон примет меня с распростертыми объятьями;
В этом-то и была загвоздка. Энн Сторейс слишком уж восторженно поклонялась его таланту. Но вслух Констанца сказала:
— Я боюсь английского климата. Даже Сторейс признавались, что там сыро, а мне нужен теплый, сухой климат, как в Бадене.
Порой Вольфгангу начинало казаться, что дороже Бадена для Констанцы нет ничего на свете.
— Мы пробудем там весну и лето, самое теплое время.
— Мы пробудем там и декабрь, если ты собираешься выполнить условия контракта. Да что говорить, один переезд через Ламанш чего стоит.
— Мы всей семьей проделали этот путь, и ничего с нами не случилось.
— И очень страдали от морской болезни, твой отец сам признавался. Да, кроме того, вы плыли туда в апреле.
Был бы сейчас рядом с ним Папа, думал Вольфганг, он бы со всем справился, ему были хорошо знакомы все трудности, подкарауливающие людей в длительном путешествии.
— Так ты не хочешь ехать, Станци?
— Не в этом дело. — Причин было много: Энн Сторейс, опасность и трудности поездки. К тому же Станци не любила перемен — не то, что он, — она их боялась. — Мы просто не можем себе этого позволить.
— Я раздобуду денег, — сказал он с уверенностью, которой вовсе не испытывал.
— Придется! Закладывать нам больше нечего.
Что тут ответишь? Он не привез денег, чтобы выкупить заложенное серебро. А на поездку в Англию нужно по меньшей мере тысячу гульденов.
Никто не согласился одолжить Вольфгангу такую сумму, даже Гофдемель и Пухберг. Вольфганг предложил выдать вексель на тысячу гульденов, обязуясь выплатить долг из денег, которые он заработает в Англии, но друзья ему даже не ответили. Поведение Гофдемеля его не удивило, но от Пухберга он этого не ожидал.
За последние две недели Вольфганг не встречал своего, друга ни на одном собрании масонской ложи и, в конце концов, сам себя презирая и страдая в душе, решился пойти на квартиру к Пухбергу; там он узнал, что купец уехал из Вены по делам и никому неведомо, где он находится и когда вернется.
Через несколько дней в музыкальную комнату Вольфганга ворвался коренастый мужчина и объявил:
— Моя фамилия Саломон, я приехал из Лондона, хочу предложить вам то, что уже предлагал О’Рейли, и еще кое-что вдобавок. Господин Гайдн согласился приехать в Англию, и мы бы хотели на следующую зиму пригласить вас.
— Гайдн? — Вольфганг удивился. Друг ему ни словом об этом не обмолвился.
— Ну да! Вы ведь слышали, что князь Эстергази скончался?
Вольфганг слышал, но, занятый своими делами, не подумал, какими последствиями это могло обернуться для его друга.
— После смерти Эстергази Гайдн может выступать, где захочет, — не без злорадства пояснил Иоганн Питер Саломон. — Заполучить Иосифа Гайдна и Вольфганга Моцарта — это великолепно! Ваше пребывание в Англии лондонцы до сих пор вспоминают с большой теплотой.
— А как быть с расходами на дорогу? Я не могу довольствоваться одними обещаниями.
— Мы вам дадим пятьсот гульденов. Столько же, сколько Гайдну.
— Но у меня ведь еще жена и ребенок. Английский импресарио немного приуныл.
— Мы не можем оплатить проезд всего вашего семейства. Но если вы непременно хотите взять их с собой, я могу надбавить еще сотню гульденов — на дорогу.
— А там сколько вы мне будете платить?
— Сколько предложил вам О’Рейли? Сто фунтов стерлингов за одну оперу?
— Триста фунтов за две.
Саломон недоверчиво посмотрел на Вольфганга.
— Я дам вам двести фунтов за оперу, выплата сразу же по получении от вас каждого сочинения, — сказал он.
Вольфганг вздохнул. Предложение щедрое, обидно отказываться.
— Что вы скажете, господин капельмейстер? Контракт у меня с собой.
— Мне надо подумать. — Не мог же он ехать без Станци и Карла Томаса.
— Только думайте скорее. Мы с господином Гайдном уезжаем в Англию через несколько дней.
У Станци появилась еще одна причина не ехать в Англию.
— Я беременна, — сообщила она. Вольфганг хотел поцеловать жену, но потом сказал:
— Я же приехал домой всего четыре недели назад.
— Поцелуй меня, — попросила она. — Ты мне не веришь?
— Это специально для того, чтобы остаться здесь и летом уехать в Баден?
— Вольфганг, как ты можешь так думать? — Она заплакала.
Впервые слезы Станци не тронули сердце Вольфганга.
— Ты твердо знаешь, что беременна?
— О, я уверена. Ведь это уже в шестой раз, я знаю все признаки.
— Через четыре недели?
— Вольфганг, что ты хочешь сказать?
Но разве выскажешь ей свои догадки? Он отсутствовал два месяца, а Констанца не прочь была пококетничать. Ей всегда льстило внимание мужчин. Но это еще не повод для подозрений. Нужны более веские основания. А сейчас важнее всего беречь здоровье Станци и будущего ребенка.
Свой последний день в Вене Гайдн провел с Вольфгангом. Они вместе бродили по центру города, стараясь отодвинуть час разлуки; прошли по Грабену до Кольмаркт, где навстречу им попался крестьянин с поросенком и курицей в руках; нищие выклянчивали крейцер. Очутившись в оживленной части улицы, где трудно было разговаривать, друзья завернули в маленькое кафе и уселись в уголке, стараясь остаться незамеченными.
Старичок скрипач самозабвенно играл мелодию из «Так поступают все», а закончив, стал обходить посетителей с тарелкой. Гайдн похвалил скрипача за то, что он играет такие прекрасные вещи, и тот сказал:
— У вас хороший слух, господин, — и, когда Вольфганг дал ему гульден, прибавил: — Сразу видно, что у вас, господин, тоже есть вкус.
Гайдн был в приподнятом настроении.
— Наконец-то я свободен, Вольфганг! — говорил он. — Могу ехать, куда вздумается, делать, что вздумается. Тридцать лет я прислуживал разным господам, а теперь сам себе хозяин!
— Это действительно так?
— Да. — Голос Гайдна сделался серьезным. — Княгиня Эстергази умерла в феврале, приблизительно в одно время с Иосифом, и убитый горем князь стал таять на глазах и через полгода сам скончался. Сын его, которого музыка мало интересует, освободил меня от службы при дворе, но назначил ежегодную пенсию в тысяча четыреста гульденов, чтобы я мог жить безбедно. От меня лишь требуется именовать себя «капельмейстер князя Эстергази». Но каковы ваши планы, Вольфганг? Саломон ведь предложил вам прекрасные условия. Почему вы не соглашаетесь?
Вольфганг не мог поведать папе Иосифу о своем бедственном положении. Гайдн еще почувствует себя в чем-то виноватым, захочет помочь, но к чему осложнять жизнь другу, достаточно и того, что сам он мучается.
— Причин немало, — ответил Вольфганг.
— На дорогу мне дают пятьсот гульденов. Если вам такой суммы не хватит, я готов поделиться. Мои потребности очень скромны, а Карл Томас для меня как родной. Сколько вам нужно?
— Нет, нет! Дело не в деньгах!
— Я получаю предложения со всех сторон, Вольфганг, это так чудесно!
А у меня их вовсе нет, с горечью подумал Вольфганг. Почему так немилостива к нему судьба? В чем он провинился? Он не считал себя выше Гайдна, но разве он ниже?
— Как только стало известно, что я свободен, меня пригласил на службу неаполитанский король и другие королевские дворы. Хорошо быть музыкантом и знать, что в тебе нуждаются!
— Вы заслужили это уважение и восхищение. — Никогда не забыть ему очертания твердого подбородка Гайдна, чуть удлиненного, как у Мамы, и ласковые модуляции его голоса.
— Но как же вы, Вольфганг? Ведь в Лондоне вам обеспечен огромный успех.
— Возможно, удастся поехать на будущий год. Или еще через год.
Гайдн печально покачал головой. — Если вы не поедете теперь, вы уже никогда не соберетесь. — Вольфганг так постарел за это время. В волосах появилась седина. С его когда-то добродушного, оживленного лица не сходит горестное выражение. И эта вечная усталость! — Саломон говорит, что Сторейсы, которые преклоняются перед вашим талантом, пользуются в Лондоне огромной популярностью. То же ждет и вас. В чем же истинная причина вашей нерешительности? Может, я разрешу ваши сомнения?
— Если бы! Нет, помощь мне не нужна, просто так уж складываются обстоятельства. Констанца плохо себя чувствует, а вы знаете, она сильно болела в прошлом году. Рисковать ее здоровьем я не могу.
— А почему бы вам не поехать одному? Устроитесь, а потом и ее выпишете.
— Одной ей не осилить такую поездку. А после того как мы потеряли нашего первенца, я дал клятву никогда больше никому не доверять ребенка. Разве что своему отцу, но его уже нет в живых.
Гайдн умолк. Он не соглашался с Вольфгангом. Констанца, казалось ему, порой использует свои болезни в собственных целях, но не дай бог намекнуть другу — это причинит ему боль. Вольфганг должен верить тем, кого он любит, думал Гайдн. Вольфганг рос, окруженный нежной любовью, ей он был обязан всем лучшим в себе, любовь — это та пища, без которой он не может существовать.
— Поездка в Лондон не вопрос жизни или смерти, — сказал Вольфганг.
— Я слышал, Сальери собирается уйти со службы, и ходят слухи, будто да Понте перебирается в Англию.
— С тех пор как умер Иосиф, подобные слухи не прекращаются.
— Если бы только слухи! Леопольд и правда не интересуется музыкой.
— Иосиф, хоть и не был знатоком музыки, каким себя мнил, имел, по крайней мере, представление о контрапункте, а в покоях Леопольда исполняют такую музыку, что собаки и те скоро разбегутся.
— Надеюсь, Вольфганг, эти свои суждения вы не высказываете вслух?
— Нет, разумеется. Но ведь так оно и есть. Отныне все будет делаться по указке Леопольда. Он помазанник божий! О, Габсбурги обладатели божественной власти на земле, редкого дара, которым они сами себя наградили.
— Столь крамольные речи могут вам сильно напортить, Вольфганг.
— А как могу я видеть в них святых, когда всю жизнь имел возможность наблюдать их с близкого расстояния?
— Вы когда-нибудь жалели, что расстались с Колоредо и Зальцбургом?
— Никогда, ни разу! — Вольфганг рассмеялся. — В Зальцбурге до сих пор думают, что музыкант — это осел, на котором ездит архиепископ, для иного он не пригоден, а Колоредо, полагающий, что будет жить вечно, создал себе идеальный двор — без театра, без оперы и, по существу, без всякой музыки.
— Я беру с собой ваши квартеты, посвященные мне. Англичанам они понравятся.
— Чего не скажешь про венцев. Прошлым летом я сочинил три симфонии, но исполнить их никого не уговоришь.
— Позор! — Гайдн был потрясен.
— Моя музыка созревает в тишине. Так я ее лучше слышу.
— Если бы можно было надеяться, что мы еще увидимся...
Гайдн, оптимист по натуре, настроен не менее пессимистично, чем он сам, понял Вольфганг.
— Я боюсь за вас, вы ведь никогда в жизни не путешествовали, почти не знаете языков, ни слова по-английски, а путешествие не легкое для человека ваших лет, — сказал Вольфганг.
— Я над этим немало размышлял и решил ехать.
По пути к дому Моцарта, где Гайдна ждала карета, они рассуждали об обыденных вещах, стараясь скрыть свои горькие думы, но подошло время прощаться, и Гайдн сказал:
— Когда в Лондоне наступят холода и сырость и мне станет одиноко, я буду в мыслях слушать «Фигаро» и другие ваши шедевры, это поможет мне согреться.
— Иосиф, неужели мы расстаемся?
— Вас что-то волнует? Что-то такое, о чем мы не говорили?
Не рассказать ли Гайдну о Констанце, о подозрении, нет-нет да и волнующем душу, что ребенок, которого она ждет, — не его? Нет, не стоит, подумал Вольфганг, это неблагородно, лишено оснований. Лучше поговорить о другом.
— Господу, видно, угодно, чтобы мы испытали величайшее счастье и тягчайшее горе и через это познали бы жизнь.
Гайдн с сосредоточенным видом слушал друга.
— За целый год, папа Иосиф, я сочинил всего лишь два струнных квартета и один струнный квинтет. В восемь лет я сочинял куда больше...
— Нежный Вольфганг, вы не знаете пощады, когда дело касается плохой музыки и плохих музыкантов. Тут вы беспощадны даже к себе. Но, боже мой, до чего вы сострадательны к людям! Имейте же хоть каплю сострадания к самому себе. Вы снова начнете писать. Непременно начнете.
— Было бы слишком жестоко поставить сейчас точку.
— Этому не бывать. Я вернусь из Англии через год-два или вы сами туда приедете, и у нас еще найдется, что показать друг другу.
Но предчувствие, что он видит друга в последний раз, снова завладело Вольфгангом.
— До свиданья... — прошептал Гайдн. Они обнялись.
— Неужели мы больше не свидимся, Иосиф?
— Нет, это было бы чересчур несправедливо! Жестоко! Час прощания пробил. Гайдн уехал.