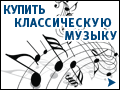По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки.
П. Чайковский
Моцарт — это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии.
Д. Шостакович
Д.Вейс. «Убийство Моцарта». 39. Сальери
Джэсон все еще размышлял над последними словами Анны Готлиб, когда Дебора обнаружила, что их карета исчезла. Джэсон глазам своим не поверил, ведь он строго наказал Гансу ждать, однако кучера не было на месте. Михаэлерплац опустела, кафе на Кольмаркт закрылись. Джэсон негодовал. Значит Ганс все-таки их предал.
Джэсон взял под руку Дебору, и они прошли весь погруженный во тьму Кольмаркт. Полночь уже миновала, тускло светились фонари, тишину нарушали лишь их шаги. Богнерштрассе, мрачный узкий проезд, был тоже безлюден. Наконец они добрались до площади Ам Гоф. Здесь, на пустынных, безлюдных улицах, на них в любую минуту могли напасть, а Джэсон был безоружен. Они уже подходили к своему дому, когда позади внезапно раздался стук копыт, и с Богнерштрассе прямо на них выехала тяжелая черная карета. Джэсон стремительно увлек Дебору в подворотню. Карета скрылась за углом. Они были на волоске от смерти.
— Наверное, это предупреждение, — сказала еще не оправившаяся от потрясения Дебора. — И мне кажется, последнее предупреждение. В следующий раз с нами поговорят по-иному. Давай скорей уедем отсюда. Мне страшно.
— Нет, нам нужно увидеть Сальери. А потом мы сразу уедем, даю тебе слово.
На следующий день Джэсон пошел в конюшню искать Ганса, чтобы выяснить, куда тот вчера пропал.
— Его там нет, — вернувшись, сказал он. — Куда он девался? Я там обнаружил его куртку и решил заглянуть в карманы. Пусть это и неблагородно, но после событий прошлой ночи вполне оправданно.
— Что же ты нашел?
— Список всех тех мест, куда он нас возил.
Появившийся в дверях Ганс сразу начал с оправданий:
— Какой-то человек вышел из Бургтеатра и велел мне не ждать, потому что мадам Готлиб пообещала отвезти вас в гостиницу в своей карете.
— Что это был за человек? — спросил Джэсон.
— Я его не знаю. Он сказал, что работает в театре. Ганс говорил с такой искренностью, что Джэсон готов был ему поверить. Даже когда Джэсон показал кучеру найденный список, тот продолжал отпираться:
— Ничего не знаю, господин Отис. Видно кто-то подложил мне его в карман. Поверьте, господин Отис, я вам предан всей душой.
— Мне следовало давным-давно тебя рассчитать. Я заплачу тебе сполна, и убирайся отсюда немедленно.
— Вы не можете меня прогнать, господин Отис!
— Как так? — возмутилась Дебора.
— Если вы меня прогоните, я пропал.
— Найдешь себе другое место. Будешь шпионить за кем-нибудь еще.
— Мне ни за что не получить другого места. Подумайте, что со мной будет, если я лишусь этой работы.
— Значит, ты доносчик, — сказала Дебора. — Как я и предполагала.
В ответ Ганс упал на колени и стал целовать подол ее платья.
— Если они прослышат, что мне отказали от места, мне не жить на свете. Они мне давно грозили.
Джэсон, отсчитывавший деньги, спросил:
— Когда?
— Когда мы первый раз приехали в Вену. Я тогда хотел от вас уйти. А мне не позволили. Они предложили на выбор: служить у вас кучером, либо сесть в тюрьму. Что я мог поделать?
— После вчерашнего происшествия тебя нужно прогнать немедленно.
— А что случилось вчера, господин Отис?
— Нас чуть не раздавила карета, — объяснила Дебора.
— Так вот отчего мне велели ехать домой, — мрачно произнес Ганс— Не прогоняйте меня! Просто не берите с собой, когда вам надо тайком кого-то навестить. Ведь вам это не впервой.
— На что ты намекаешь? — спросил Джэсон.
— Вы же пользуетесь, когда надо, задней дверью.
— А ты откуда знаешь?
— Я и так сказал то, чего не следует. — Страх Ганса был неподдельным. — Но им я не скажу о вас ничего плохого.
— Кому им? — настаивал Джэсон. — Губеру?
Ганс онемел от ужаса и умоляюще смотрел на Джэсона. Знай они, что творится у него в душе, они бы над ним сжалились, с тоской думал он. Ему не хотелось умирать; пока они не отправятся в обратный путь в Америку, он должен во что бы то ни стало оставаться у них в услужении.
Джэсон поспешил покончить с этой сценой. Сунув Гансу деньги, он сказал:
— Если через час не уберешься отсюда, я сообщу полиции, как ты признался нам, что состоишь у них на службе и как ты их предал.
— А что будет с каретой?
— Если понадобится, найму другого кучера.
— Они и его заставят шпионить, вот увидите.
Но Джэсон вытолкнул дрожавшего Ганса за дверь.
В ожидании встречи с Сальери они каждую неделю виделись с Эрнестом. Как только свидание состоится, решил Джэсон, они немедленно уедут, независимо от того, будет закончена оратория или нет. Ни Бетховен, ни Гроб не давали о себе знать, и Джэсон был даже доволен: ему надоели отсрочки.
Но Эрнест считал, что все идет отлично. Случай с каретой произошел просто по вине пьяного кучера, сказал он, а пьянчуг в Вене не счесть; немало пешеходов получили увечья или вовсе лишилось жизни из-за таких вот нелепостей, просто надо глядеть в оба. О Гансе тоже нечего беспокоиться: не он, так кто-нибудь другой выполнял бы эту функцию. Самое главное, утверждал Эрнест, не быть пойманным с поличным.
Апрель стоял чудесный. В Вену пришла весна с теплыми, ласковыми днями, и Джэсон с Деборой совершали долгие прогулки по городу. Ганса они не встречали и не замечали за собой явной слежки.
Картина отношений между Моцартом и Сальери теперь ясно вырисовывалась перед Джэсоном. Он старался на память заучить все собранные факты, чтобы не иметь при себе никаких опасных бумаг, и Дебора ему в этом помогала. Поездка, наконец, тоже обрела для нее особый смысл, и она, как и Джэсон, горела желанием довести дело до конца и по возвращении в Америку опубликовать все то, что им удалось узнать. И если никто не согласится им в этом помочь, она употребит на это свои собственные деньги.
При встрече Эрнест сказал:
— Мой знакомый смотритель выжидает подходящий момент для свидания с Сальери. Сальери совсем плох, но временами ему становится лучше.
Наконец долгожданный день наступил. Встреча была назначена на второе мая, вечером, когда стемнеет, и Джэсон готовился к ней с особой тщательностью. Они выскользнули через заднюю дверь и сели в нанятую Эрнестом карету, кучеру было обещано хорошее вознаграждение, и Эрнест посоветовал Джэсону дать двадцать пять гульденов служителю, получавшему нищенское жалованье.
По пути в лечебницу все молчали. Джэсон с трудом сдерживал нетерпение, Дебора мечтала только о том, чтобы все поскорее окончилось, а Эрнест считал сегодня разговоры излишними, словно подчеркивая, что они могут умалить ту важную роль, какую он играл в этом деле.
В укромном месте неподалеку от лечебницы Эрнест остановил карету, где, как было условлено, их уже поджидал смотритель. Смотритель, высокий худой неприветливый старик, тяжелым ключом открыл железные ворота и без тени доброжелательства сказал:
— Будьте осторожны. Не дай бог, нас кто-нибудь заметит. Через эти ворота доставляют припасы и увозят мусор. Больным не разрешено покидать лечебницу, а посетители, если и бывают, то пользуются главным входом.
— А из окон нас никто не увидит? — спросила Дебора. Все окна в невысоком сером здании были зарешечены, как в тюрьме.
— Вряд ли кто-нибудь разглядит вас в темноте. Не беспокойтесь, я все предусмотрел.
Они подошли к комнате Сальери, и Джэсон отдал смотрителю двадцать пять гульденов со словами:
— Я дам вам еще столько же, если мы благополучно отсюда выберемся.
Смотритель кивнул и отпер тяжелую дверь. В просторной комнате стояли кровать, фортепьяно, на стене висело зеркало, и лишь скрежет затворившейся двери напомнил им, что это тюрьма. Сальери сидел за фортепьяно, спиной к ним, и смотрел в пространство. На скрежет двери он но обернулся, и Джэсон шепотом спросил:
— Разве он не слышит?
— Нет, слух у него хороший. Но его мысли все время где-то витают.
Сальери переменил позу, и теперь его можно было рассмотреть. Время обошлось с ним безжалостно: перед ними сидел немощный, высохший, глубокий старик. Небрежно наложенная краска делала его лицо похожим на нелепую маску с крючковатым носом и выступающим подбородком. Однако темные глубоко запавшие глаза сохранили прежний блеск. При виде посетителей взор его оживился, но тут же потух: вошедшие были ему незнакомы.
— Не упоминайте в разговоре с ним пищу. Это вызывает у него подозрение. Он ест очень мало, и только после того, как мы попробуем кушанье. Он без конца рассказывает о своих кошках, которые были отравлены. Говорит, что люди всегда испытывают яд на этих животных.
— Отчего же его держат здесь? — спросила Дебора. С тех самых пор, как Дебора узнала о том, что Сальери заключен в лечебницу, она непрестанно задавала себе вопрос: действительно ли Сальери лишился рассудка или это только уловка двора, чтобы заставить его замолчать?
— Он страдает раздвоением личности, — пояснил смотритель. — Иногда это мания преследования, а временами он безумолку хвастается своими успехами. Видно, в душе у него происходит жестокая борьба. Мне кажется, она его и погубит. Долго он не протянет.
— Почему же он не в кровати? — спросила Дебора.
— Он боится лежать, он опасается, что уже никогда не встанет. Каждое утро он часами занимается своим туалетом, словно старается отпугнуть смерть. Но порой, мне думается, он ждет ее как избавления.
— Он не делал попыток к самоубийству? — спросил Джэсон.
— Здесь нет. В семьдесят пять лет человек держится за жизнь, даже если мечтает о смерти.
— Похоже, он не замечает нашего присутствия.
— Сомневаюсь. Он просто делает вид, хочет понять, кто вы такие. Он болезненно подозрителен и никому не доверяет. Это у него тоже болезнь.
— Сколько в нашем распоряжении времени?
— Примерно полчаса. Я устроил так, что второй смотритель сейчас в отлучке, и никто не узнает о вашем посещении.
— А если Сальери проговорится?
— Ему не поверят. Он беседует сам с собой, ему слышатся голоса, чудятся видения. Вряд ли вам удастся вызвать его на разговор, слишком уж он недоверчив.
Дебора направилась к Сальери, но тот отступил в угол, бормоча себе под нос:
— Я, Антонио Сальери, родился в Леньяго, в Италии, в 1750 году, умер в Вене, в 1791 году, ученик Гассмана, композитор и первый капельмейстер после Бонно. Родился в 1750 году, умер в...
Его голос перешел в неразборчивый шепот, и Джэсон взволнованно воскликнул:
— Умер в 1791 году! И часто он это повторяет?
— Он словно помешался на этой дате. Без конца ее твердит.
Но когда Джэсон заговорил с Сальери, тот повернулся к нему спиной. Тогда Дебора взяла Сальери за руку, вялую и холодную, и сказала:
— Мы ваши друзья из Америки.
— Америка, — повторил Сальери, словно впервые о ней слышал.
— Америка, Новый Свет, ее открыл Колумб, — повторила Дебора.
Сальери вдруг осенило, и он сказал:
— Колумб, мой соотечественник. Самый знаменитый итальянский первооткрыватель. Я тоже итальянец. — Сальери слабо улыбнулся, мысли его вновь куда-то унеслись.
— Мы впервые в Европе, — сказал Джэсон. Сальери выдернул свою руку из руки Деборы, и пришельцы, казалось, перестали для него существовать.
Дебора медленно выговаривала каждое слово:
— Мы проводим тут наш медовый месяц. Знакомые в Америке попросили нас отыскать их старого друга, от которого они давно не имели вестей. Нам сказали, что вы можете нам в этом помочь.
Сальери насторожился.
— Наши знакомые очень давно не виделись с ним. Может быть, вы поможете нам отыскать композитора Моцарта?
Сальери вздрогнул, испуганно оглянулся, посмотрел на дверь и таинственно прошептал:
— Его здесь нет.
— А вы не знаете, где он, маэстро?
— Они запрещают мне произносить его имя. Все эти годы, уже много лет... Шш... — И продолжал в полный голос: — Я уже стар. И сожалею о том, что когда-то был молодым. Они не пускают ко мне священника, не дают мне исповедаться. А без исповеди моей душе гореть в аду!
Джэсон осторожно сказал:
— При нас вы можете спокойно произносить это имя.
— Вы обещаете добыть мне священника? Раз уж вы знали моего соотечественника?
— Не бойтесь называть это имя. Тут нет ничего дурного. Сальери застонал. Казалось, ему хотелось высказать нечто, давно терзавшее его. Потом он умолк и с прежней подозрительностью воззрился на пришельцев. Ему снова слышался голос, он обращался к нему, но то был не их голос, он принадлежал человеку, давным-давно покинувшему эту землю. Затем к нему присоединился второй голос, спорящий с первым, и этот голос походил на его собственный, злой, встревоженный, испуганный. Первый голос принадлежал Моцарту. Не может быть, негодовал он в душе, ведь тот год, 1791, давным-давно канул в Лету. Но голос непрестанно твердил: «Ты убийца». А он отпирался, хотя помнил, что умертвил трех своих любимых кошек. Он всегда брал их на колени и ласкал, но то был единственный путь испробовать действие «аква тоффана» на живых существах, и он сам глубоко сожалел об этой необходимости. Что тут выведывают эти люди? Уж не хотят ли его разоблачить? Когда, наконец, умолкнет терзающий его голос? Неужели Моцарт никогда не оставит его в покое?
— Мы очень любим музыку, маэстро, — сказала Дебора. — Вы не сыграете для нас? Одну из ваших сонат.
Может, это заглушит навязчивые голоса, подумал Сальери и сказал:
— Я сыграю мою любимую сонату, которую сочинил для самого императора.
Сальери весь отдался музыке и играл с таким самозабвением, что Джэсон понял: музыка для него единственный бог, которому он поклоняется. Глаза Сальери сияли, мелодия, невыразительная вначале, обрела изящество и блеск. И Джэсон, не удержавшись, воскликнул:
— Вы играете Моцарта! Сальери в бешенстве закричал:
— Это моя музыка! Музыка Сальери!
Но когда он вновь опустил руки на клавиши, Моцарт окончательно взял верх над Сальери.
— Прошу прощенья, маэстро, — упорствовал Джэсон, — но это ведь Моцарт.
Сальери совсем вышел из себя и невпопад колотя по клавишам, крикнул:
— Ложь! Здесь запрещено упоминать его имя! А вы знаете, как я с ним поступил?
Джэсон с Деборой замолкли. Даже смотритель весь обратился в слух.
— Через сто лет при дворе позабудут о его музыке, — объявил Сальери. — При дворе я был первым капельмейстером и не унижался до подражания ему. Я превосходил его талантом. Я был старше. На шесть лет. Бетховен и Шуберт были моими учениками. Без меня Бетховен был бы ничто. Я бы и его выучил, но он не желал меня слушать. Даже ребенком он ставил себя выше меня, самого богатого, самого знаменитого и могущественного музыканта империи.
— А что было потом? — спросил Джэсон.
— Я одержал над ним победу! К чему вся эта пустая болтовня о его музыке? Я поставил его на место. — Он схватил чистый лист бумаги и сделал вид, что читает. — Вот что по моему совету написал ему император, когда он представил свою оперу Императорскому театру.
Сальери без запинки читал навеки запечатлевшиеся в его памяти строки:
«Благодарим вас за представление Дирекции партитуры вашей последней оперы „Свадьба Фигаро“. Мы ознакомились с вашим сочинением и вынужден сообщить вам, что в настоящее время не считаем возможным поставить эту оперу на сцене. Партитура не содержит ничего интересного или нового, и во многих местах повторяет приемы, которые до вас с большей выразительностью использовали в своих сочинениях Паизиелло и Глюк, что, по нашему мнению, делает вашу оперу подражательной и непригодной к постановке. Дирекция театра также придерживается мнения, что либретто вашей оперы не встретит одобрения при дворе, а некоторые места в нем вызовут неудовольствие высокопоставленных лиц. Ваша опера не заслуживает внимания, она лишена оригинальности и достоинств. За последнее исполнение вашей салонной музыки вам заплатят десять гульденов. Просим вас также в дальнейшем при посещении Гофбурга входить через заднюю дверь. Гофбург любимая резиденция императора, и Его Величество недоволен тем, что в прошлый раз вы наследили в парадном подъезде».
Джэсон спросил:
— Маэстро, неужели вы в самом деле посоветовали императору написать подобное письмо?
— Да. Текст письма мой. Никто не пользовался таким доверием у императора, как я.
— Но «Свадьба Фигаро» увидела свет! Несмотря ни на что.
— В конце концов император Иосиф не разрешил отослать письмо. Но я его пошлю теперь. Новый император, брат Иосифа, прислушивается к моим советам.
— Он скончался. Сейчас правит его сын Франц. Уже много лет.
— Я близкий друг императорской семьи. На Венском конгрессе я дирижировал оркестром. Они не одобряли его музыки, уж я-то знаю. От «Свадьбы Фигаро» не осталось и следа, как и от его тела. Вам удалось разыскать тело?
Сальери бросал им вызов. С торжествующим видом он шагал взад-вперед по комнате.
— Значит, императорская семья разделяла ваше мнение о Моцарте? — спросила Дебора.
— Конечно!
— Они вам так и говорили?
— Мадам, я ведь не так глуп, им не за чем было высказываться об этом вслух. Я догадывался об их чувствах. Я был виртуозом во всем. Князь Меттерних называл меня королем интриги и говорил, что, будь я его противником, он бы не знал покоя. Вы думаете, я нахожусь здесь из-за болезни?
— А почему же? — спросила Дебора.
— Шш... — Сальери поманил их к себе. — Я нахожусь здесь под защитой. Есть люди, которые желают мне смерти.
— Кто же это?
— Я вам не скажу, иначе вы меня выдадите. Но мне удалось избавиться от да Понте.
— Он жив, — вставил Джэсон.
— Без меня ему не написать бы ни единой оперы. А его друг мертв.
— Вы угощали Моцарта гусиной печенкой у себя на ужине в тот вечер? — напрямик спросил Джэсон.
— Этим варварским немецким кушаньем! Кто вам это сказал?
— Многие люди. Вы хотели отравить его этим кушаньем, маэстро?
— Смертельны не только яды, но и некоторая пища, — поучительно произнес Сальери.
— Отчего вы угощали такой пищей Моцарта, если знали, что она вредна?
— Это не яд. Есть много способов отравить человека: порошок, растворенный в вине, отравленная перчатка, грязный ватерклозет...
— И тело исчезло, — задумчиво произнес Джэсон.
— Пепел был развеян по ветру. Не осталось никаких улик. Раз нет тела, нельзя доказать и вину.
— Вы дошли до кладбища?
— Началась ужасная метель. Я не мог туда добраться.
— А почему исчезло тело, вы знаете?
Сальери начал хохотать, смех перешел в истерические рыдания, а затем в приступ кашля, который, казалось, удушит его.
Смотритель подал ему стакан воды, но Сальери сделал несколько глотков лишь после того, как тот ее попробовал. Он погрузился в угрюмое молчание, не обращая больше внимания на посетителей. Они стараются загнать меня в тупик, думал он, хотят вернуть прошлое, но им ни за что не найти того аптекаря, я назвался чужим именем, да он и не знал меня в лицо, он тогда уже был дряхлым стариком и, видно, давно умер, к тому же аптекарь обязан отпустить покупателю яд, пусть даже мышьяк, они не посмеют меня тронуть, у меня связи при дворе, меня защитят, вот почему я здесь, найти бы только священника и обрести наконец покой, чтобы не гореть в вечном огне.
И тут он услышал, как смотритель говорит посетителям:
— Вам лучше уйти. Что если он вдруг отдаст богу душу в вашем присутствии? Тогда не миновать беды. Он совсем слаб, еле дышит. Это может случиться в любую минуту.
Он слышал и другие голоса, кричавшие:
«Твои дни сочтены, Антонио, смерть близка, твои дни сочтены, они настигают тебя».
Он повернулся к посетителям и в зеркале на стене увидел свое отражение. Он не узнал себя. Неужели это я, ужаснулся он, безобразный, сломленный жизнью старик?
Гордость и раскаяние боролись в нем, прошлое не давало ему покоя, он не отводил от зеркала напряженного взора; хор голосов снова звучал у него в голове: голос Моцарта, — но он ведь мертв, — голоса да Понте, Иосифа, и снова голос Моцарта. Неужели Моцарт будет вечно преследовать его? Моцарт, подступавший все ближе, восставший из могилы. Но ведь могилы нет. А значит, нет и Моцарта.
Он бросился к зеркалу, пытаясь разбить стекло, заглушить пронзительные голоса, — какое великолепное получится крещендо! И вдруг остановился. Слышат ли они то, что слышит он, эту прекрасную музыку! Отчаяние, зависть, ненависть захлестнули его, никогда не создать ему ничего равного, и этого он никогда не простит Моцарту.
Джэсон и Дебора бросились было удержать Сальери, но тот внезапно замер на месте, прикрыл отражение рукой и повторял:
— Убийца! Убийца!
Отражение молчало, и он, вырываясь из их рук, упал на пол, моля дать покой его душе и измученному телу.
— Что я с ним сделал! Что сделал! — твердил он.